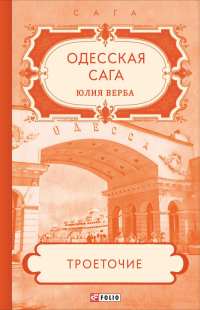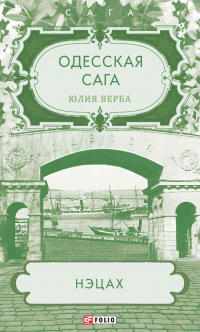Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Нэцах» — третья книга «Одесской саги». Это слово означает седьмую цифру сфирот в каббале и переводится как «вечность» или «торжество» и символизирует победу и стойкость в терпении и вере. Роман «Нэцах» — про выдержку, силу и выносливость, качества, которые помогают разросшейся молдаванской семье в любых условиях, при всех властях сохранить себя, свои корни и те самые легендарные одесские пофигизм и жизнелюбие… В издательстве «Фолио» вышли первые два романа «Одесской саги» Юлии Вербы — «Понаехали» и «Ноев ковчег».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Артюхович (Верба)»: