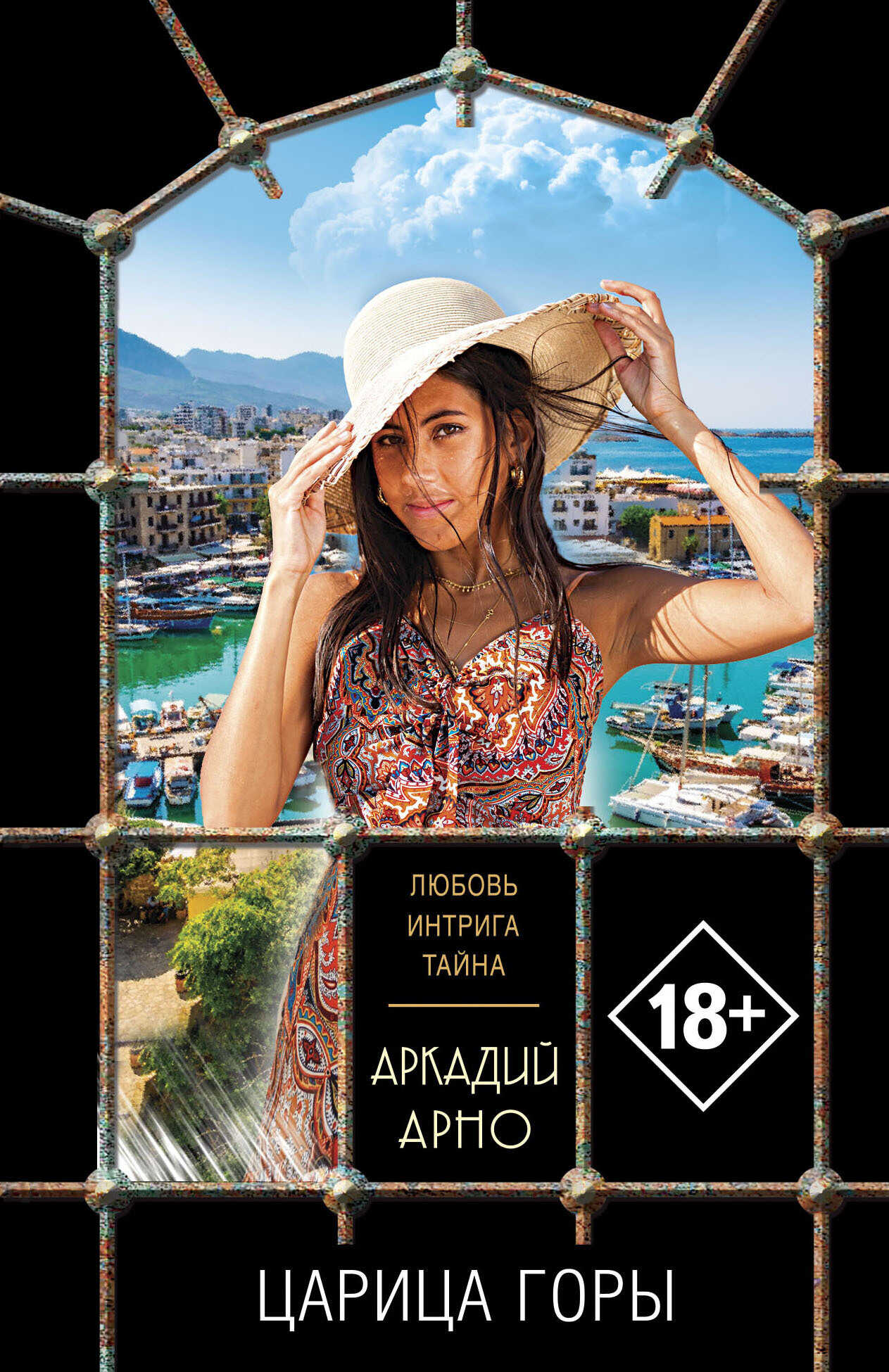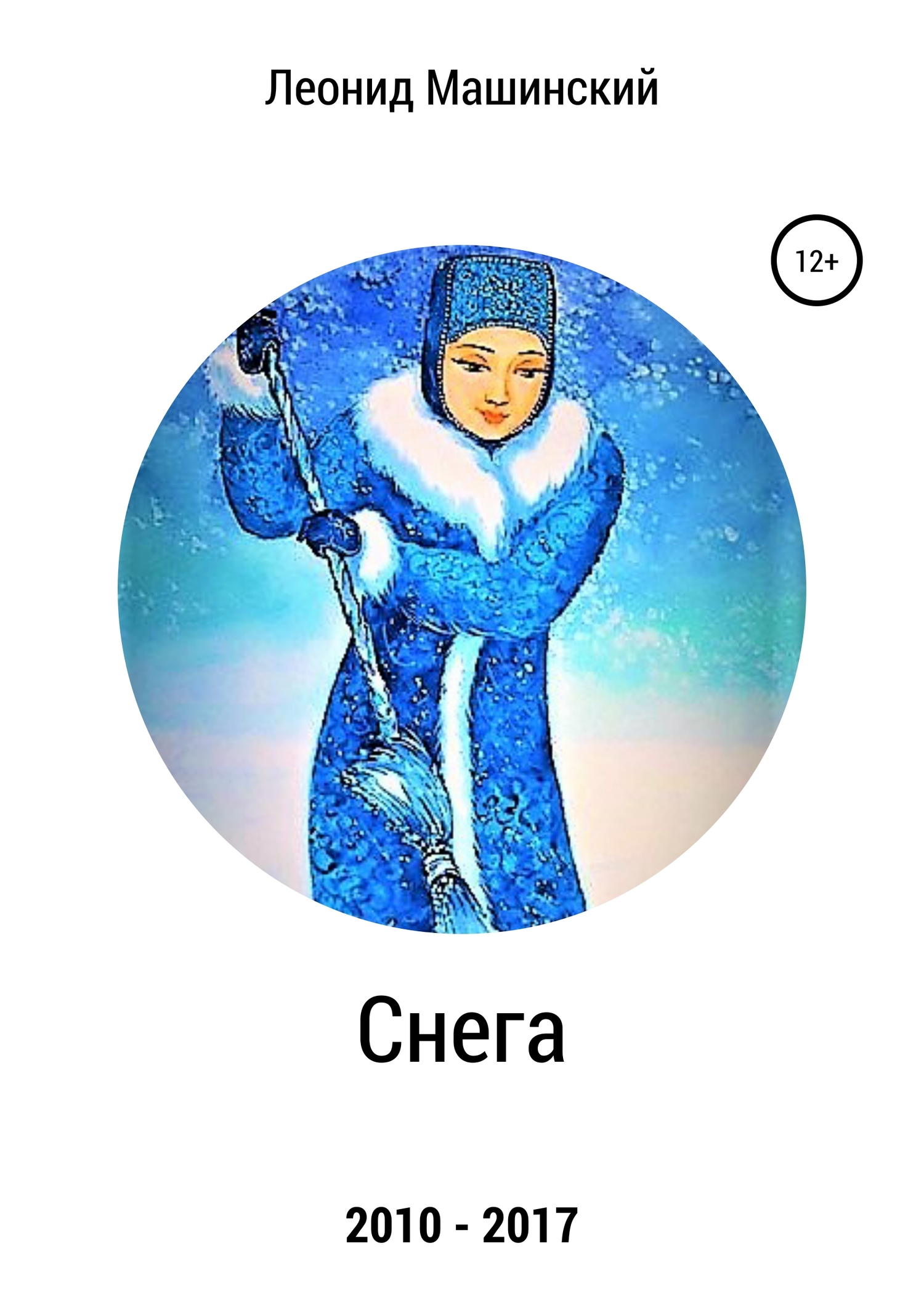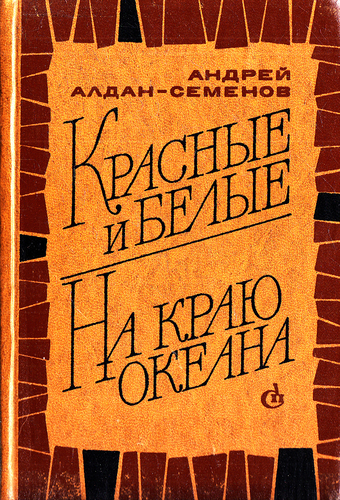Шрифт:
Закладка:
Рите Сотниковой все удается в жизни. Юной девушкой она приходит в школу молодых журналистов, и первая большая статья приносит ей славу и уважение коллег. Рита очень хороша собой, независима и остроумна, она умело использует мужчин исключительно как трамплин для восхождения по карьерной лестнице. Став любовницей пожилого медиамагната, Рита оказывается в центре культурной жизни города, ее окружают местные и столичные знаменитости. Она летит вперед, не зная преград, ведь ее оружие безупречно – яркий талант журналиста и неподражаемая женская привлекательность. Она легко шагает по головам, и ей все сходит с рук. Так продолжается до тех пор, пока директор оружейного магазина не презентует ей за отличную статью дамский пистолет. По роковому стечению обстоятельств именно в этот день Рита Сотникова садится в машину к преступнику… Все читатели отмечают легкость языка Аркадия Арно, динамичность сюжета, но в первую очередь – яркие женские образы, которые ему особенно удаются. Именно такова героиня романа «Царица горы» – талантливая журналистка Рита Сотникова, которая должна пройти огонь, воду и медные трубы, стать выброшенной из рая и преодолеть все круги ада, прежде чем она увидит далеко впереди такой долгожданный свет… Писатель Аркадий Арно работает практически во всех литературных жанрах: это исторический роман, детектив, приключенческий роман, авантюрно-любовный, психологический, фантастика, триллер, биография известных исторических личностей, изложенная языком художественной прозы, и даже роман-мистификация. Если он берется за роман исторический, то легко может направить своего читателя в любую эпоху – будь то античность, раннее или позднее Средневековье, Новое время или XIX век. А если это детектив, фантастика или мистика, то автор ищет непредсказуемые сюжеты и решения, но во главе угла всегда стоит противостояние добра и зла, борьба героя в сияющих доспехах и злого гения, и, конечно, любовь мужчины и женщины, без которой этого мира не существовало бы.