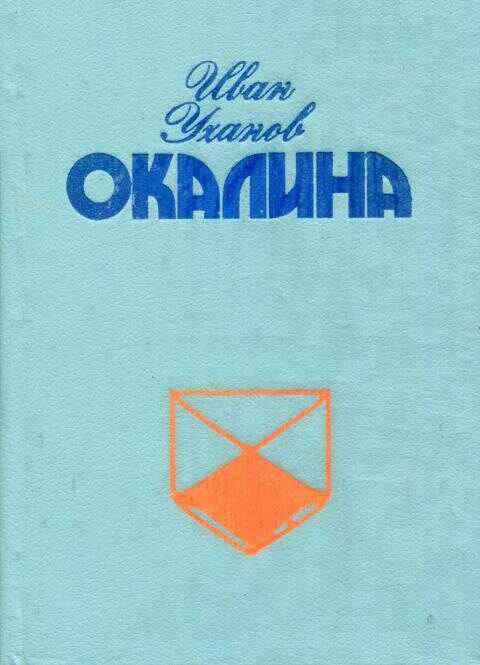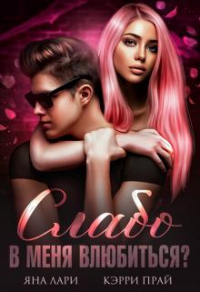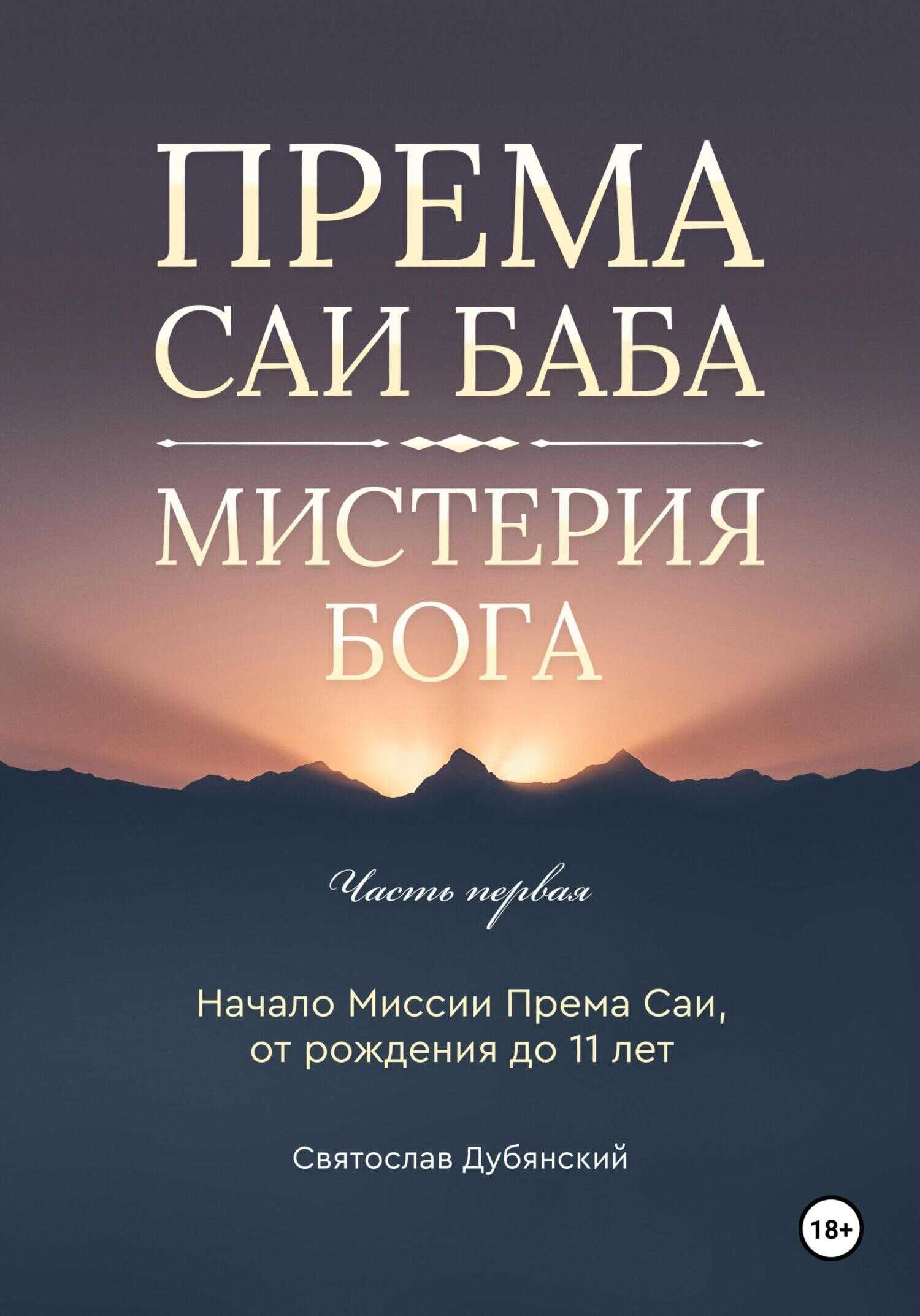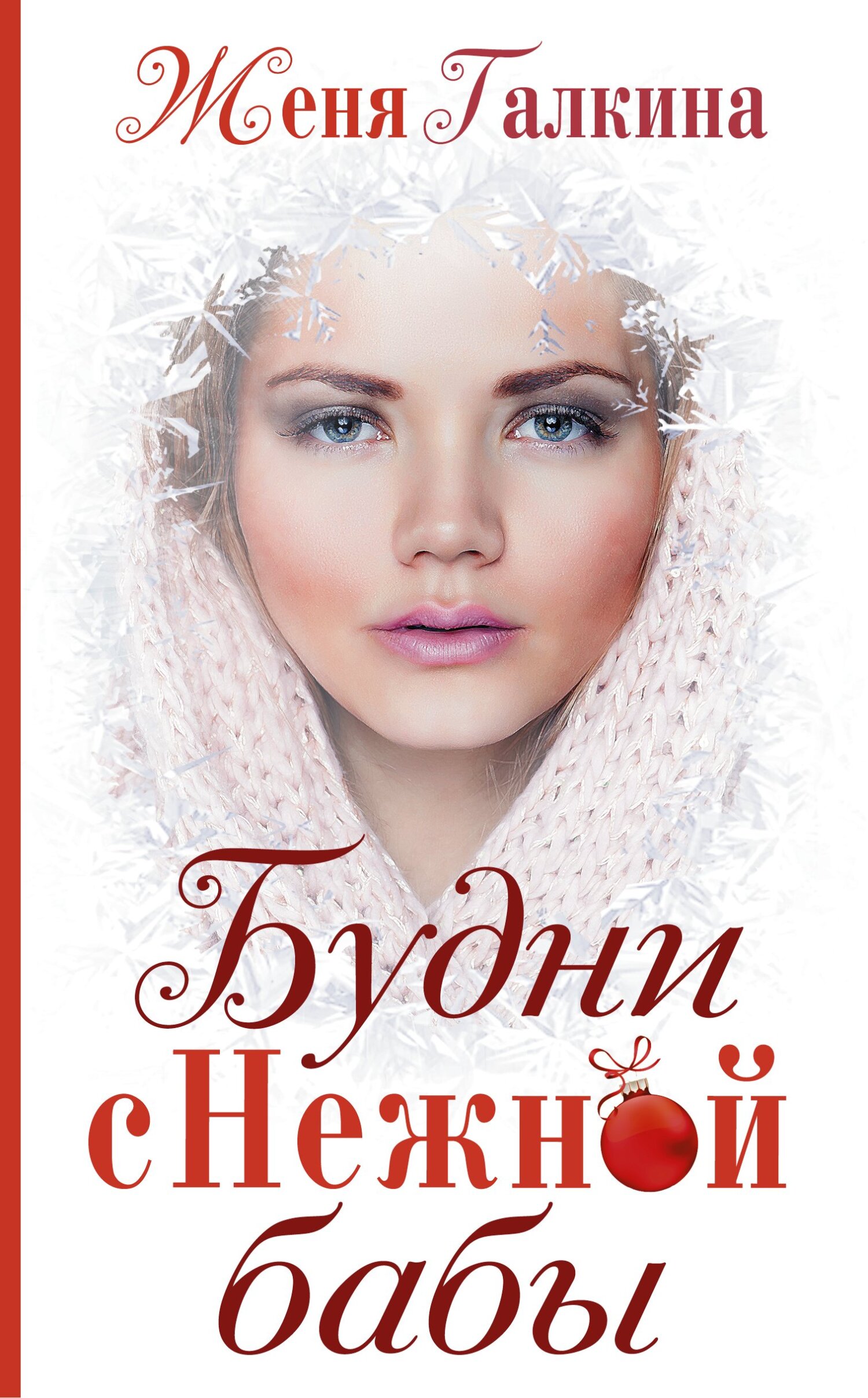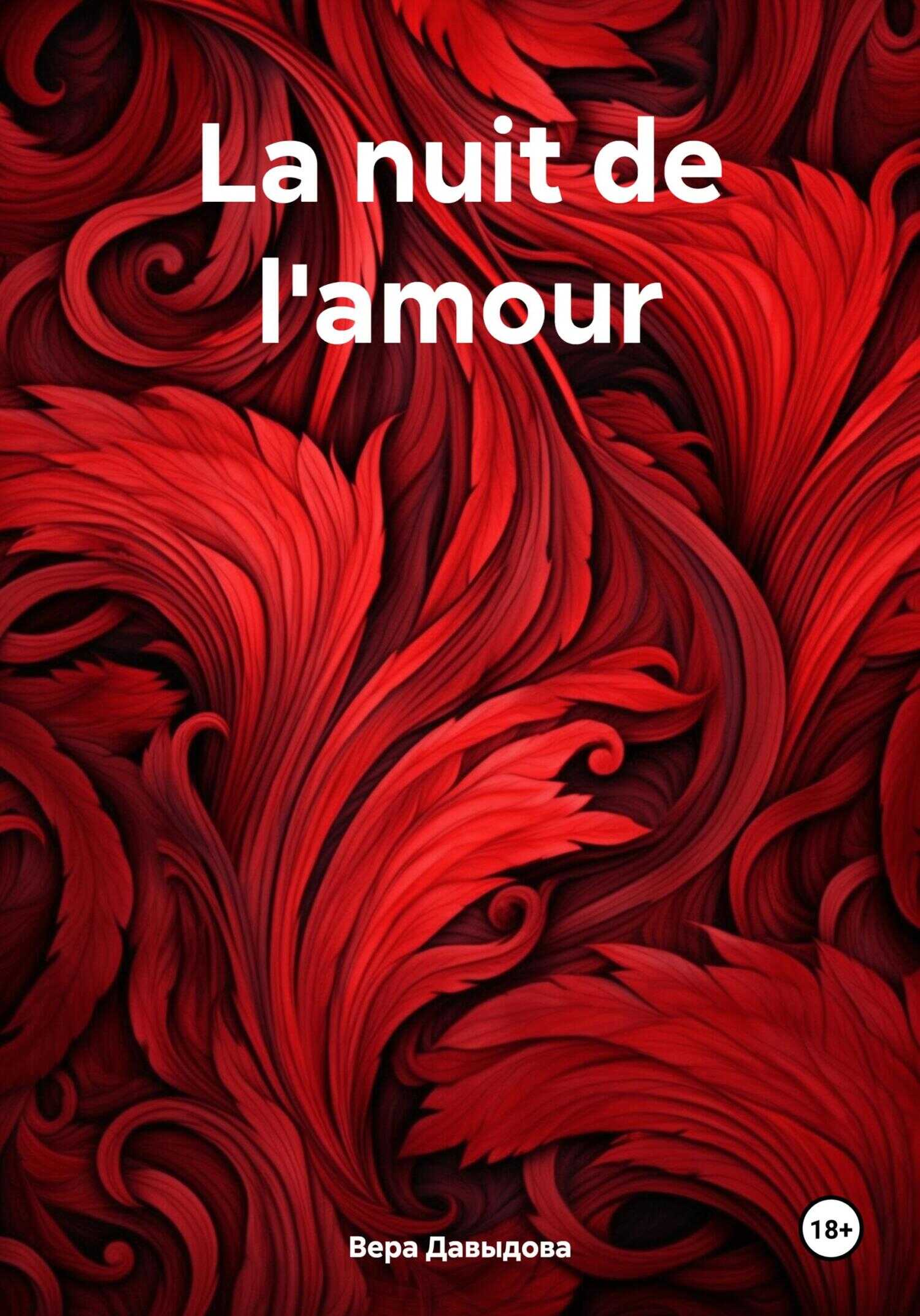Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу лауреата премии Ленинского комсомола вошли повесть, рассказы и очерки, опубликованные в журналах «Москва», «Смена», «Наш современник», «Урал», в газетах «Правда» и «Литературная Россия». Герой повести, давшей название сборнику, выдерживает суровый экзамен на духовную зрелость, на человечность. Пафос всей книги — в утверждении мысли о том, что человек в ответе за все, что происходит на земле.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Сергеевич Уханов»: