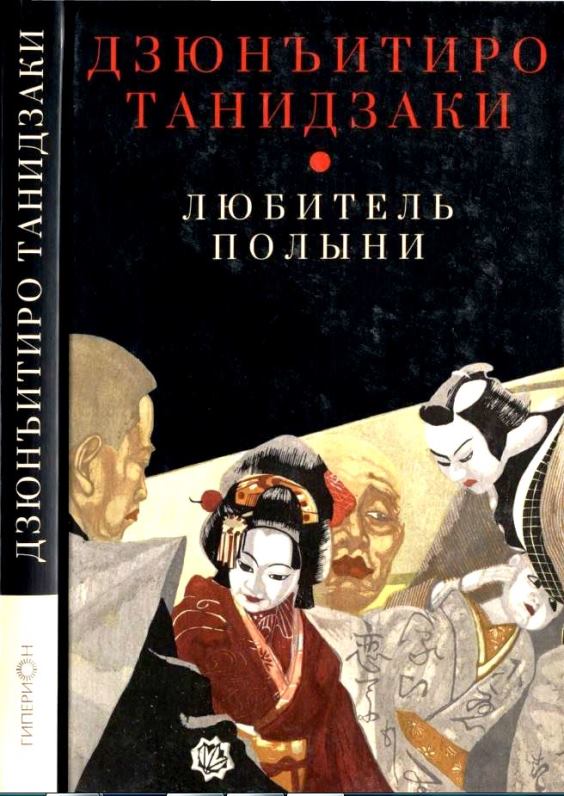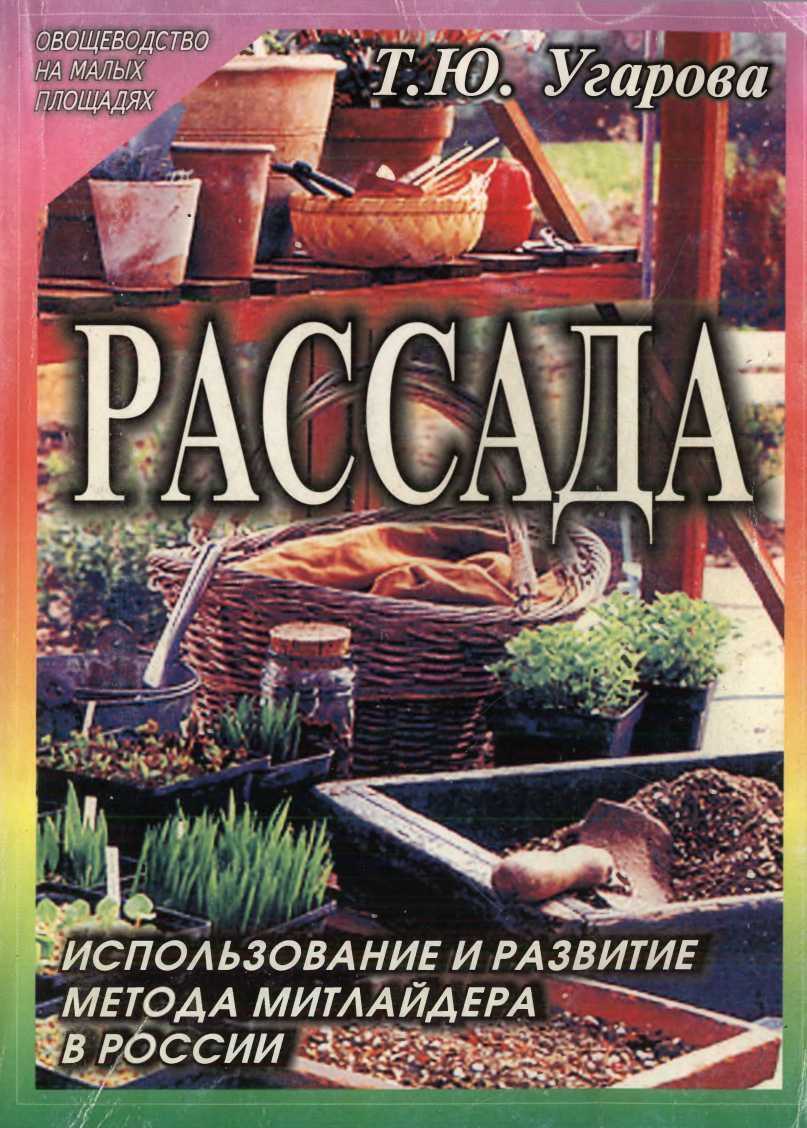Шрифт:
Закладка:
Роман Анастасии Андриановой, автора книг «Песня чудовищ», «Пути волхвов» и «Мёртвое Царство».С приходом ночи болота оглашаются воем упырей, и беда тому, кого темнота застанет в пути. Год назад болотные твари утащили младшего брата Мавны, Раско, и вся её жизнь переменилась: мать слегла от болезни, старший брат стал нелюдимым и вспыльчивым, а сама Мавна будто оледенела, разучилась радоваться. Однажды в деревне объявляется незнакомец и дарит Мавне лягушачью шкурку, а вместе с ней – надежду, что Раско еще можно спасти. Мавне придётся шагнуть за ограду, в стылый туман, и лишь Покровители знают, кто встретится ей на этом пути.Шаг за околицу – в пугающую неизвестность. Шаг на земли, где ничто не защитит от упырей. В топях сгинул младший брат Мавны, Раско. Туда ведёт её лягушачья шкурка, подаренная незнакомцем. Тревога стискивает сердце, и только искорка надежды помогает Мавне идти вперёд.В истории тёплые и уютные сцены контрастируют с мрачными и жуткими. Фэнтези, прошитое мотивами хорошо известных славянских сказок. Оригинальная интерпретация упырей и авторский мир! Сможет ли Мавна найти брата и вернуться домой?