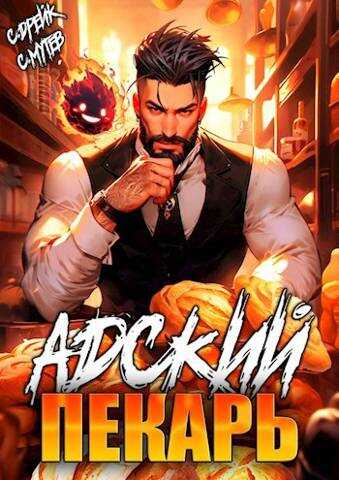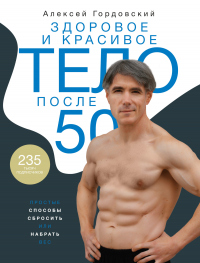Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Судьбе было мало, что ты оказался в теле подростка и в другом времени, отстоящим от твоего минимум на двести лет. Это ещё и другая планета! Значит, нужно вернуться домой. Любым способом. Невозможно? Всё возможно, если ты живёшь в лучшей стране на этой планете - Союзе Советских Социалистических Республик.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Анатольевич Евтушенко»:
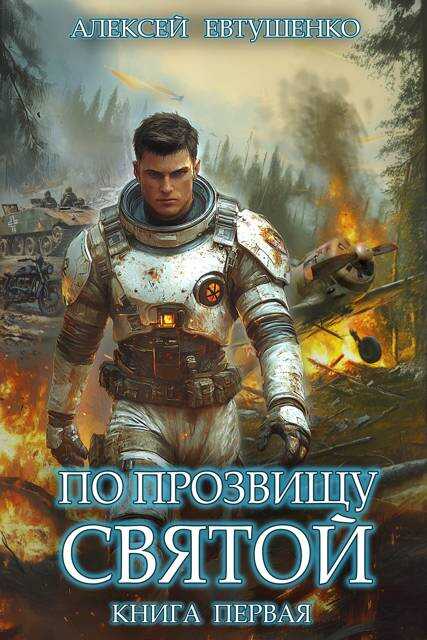
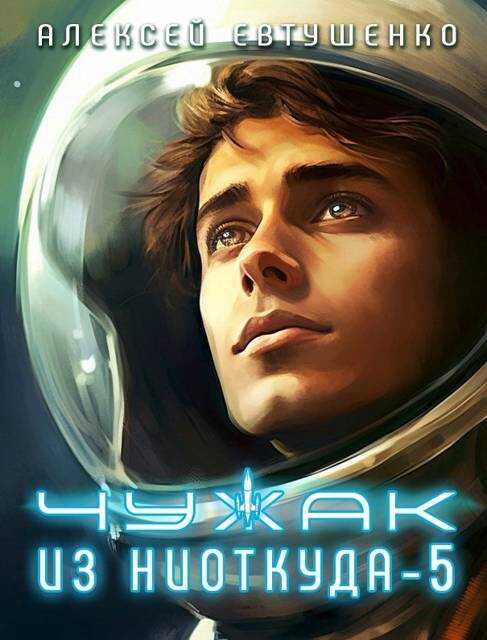

![Вечная кровь [СИ c издательской обложкой] - Алексей Анатольевич Евтушенко](/uploads/posts/books/18702/18702.jpg)