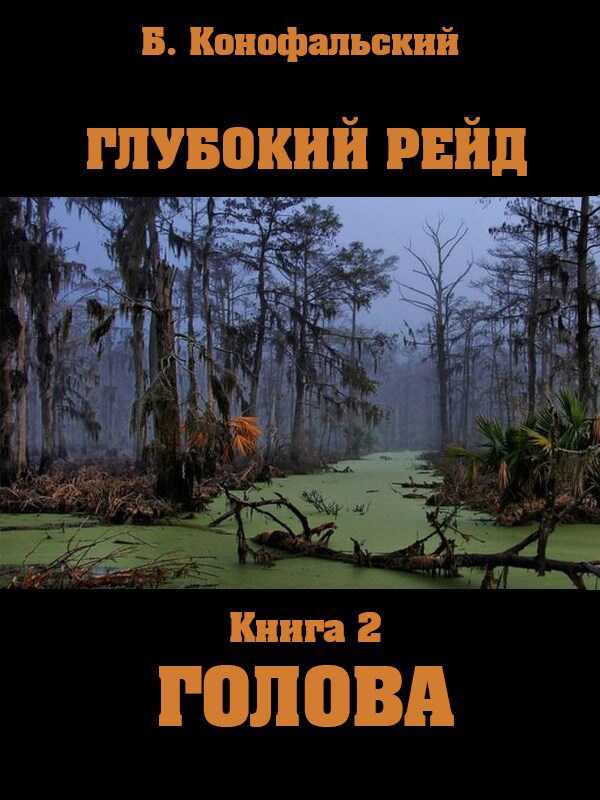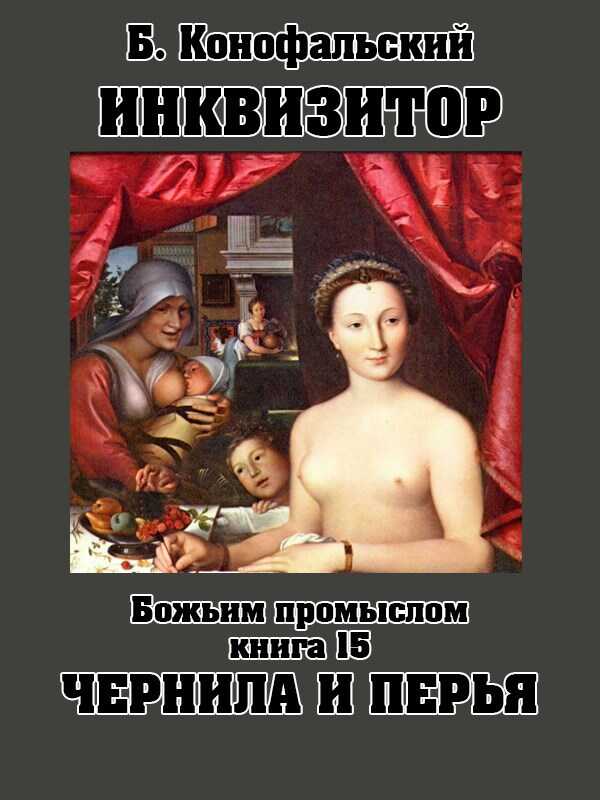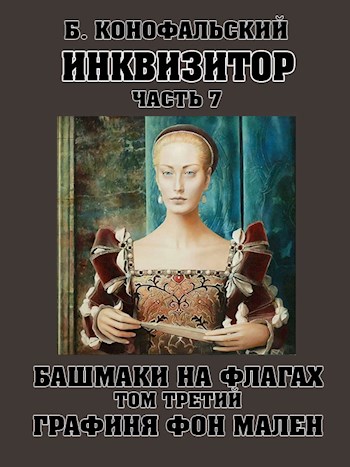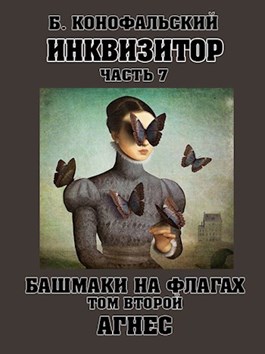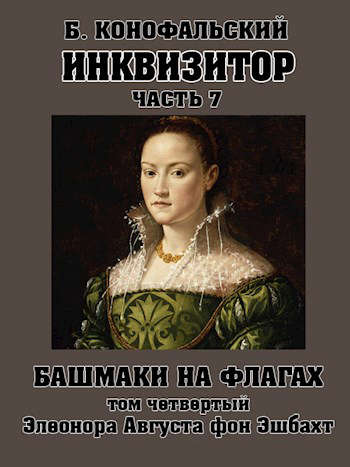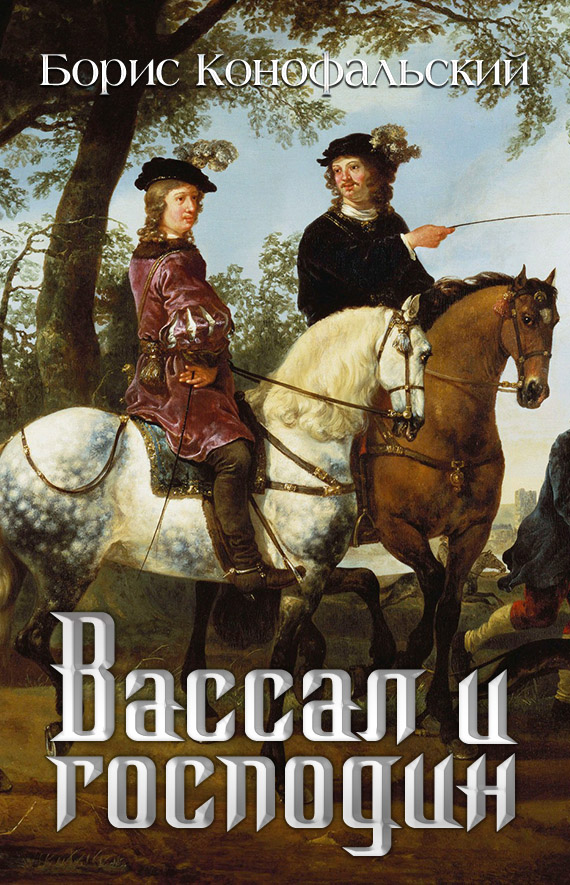Шрифт:
Закладка:
Книга «Башмаки на флагах. Том 1. Бригитт» - это исторический фэнтези роман Бориса Вячеславовича Конофальского, начало саги о деяниях Инквизитора - предобрейшего рыцаря божьего, меча веры и верного сына Святой Матери Церкви.
В этом томе автор рассказывает о том, как Инквизитор, или Иероним Фолькоф фон Эшбахт, стал таковым. Он родился в благородной семье в Германии, но его отец был убит во время войны, а его мать была обвинена в колдовстве и сожжена на костре. Он сам был спасен своим дядей, который воспитал его в духе строгой католической веры и послал его в Испанию, где он поступил в орден Иезуитов. Там он прошел жестокое обучение и испытания, которые сделали его безжалостным и бесстрашным воином Христа.
В Испании он также встретил свою первую любовь - Бригитт, дочь графа де Монтерей. Она была красивой и умной девушкой, которая увлекалась астрономией и алхимией. Она стала для него Дланью Господней - символом веры, надежды и любви. Однако их отношения были полны опасностей и препятствий, так как ее отец был противником Иезуитов и Инквизиции, а ее знания и интересы были считались еретическими и запрещенными. Инквизитор должен был принять решение: остаться с Бригитт или покинуть ее ради своей миссии.
Кроме того, автор повествует о том, как Инквизитор начал свою борьбу за правду и справедливость в мире, где царили ложь и зло. Он сталкивался с разными врагами: от еретиков и колдунов до демонов и драконов. Он также путешествовал по разным странам: от Испании и Франции до России и Польши. Он видел разные чудеса и ужасы: от красоты искусства и природы до жестокости войны и инквизиции.
Книга «Башмаки на флагах. Том 1. Бригитт» - это захватывающий и трогательный роман о том, как один человек стал слугой Бога и защитником людей, о том, как он нашел свой путь и свое счастье. Это книга о том, как важно следовать своему сердцу и своему Богу. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com