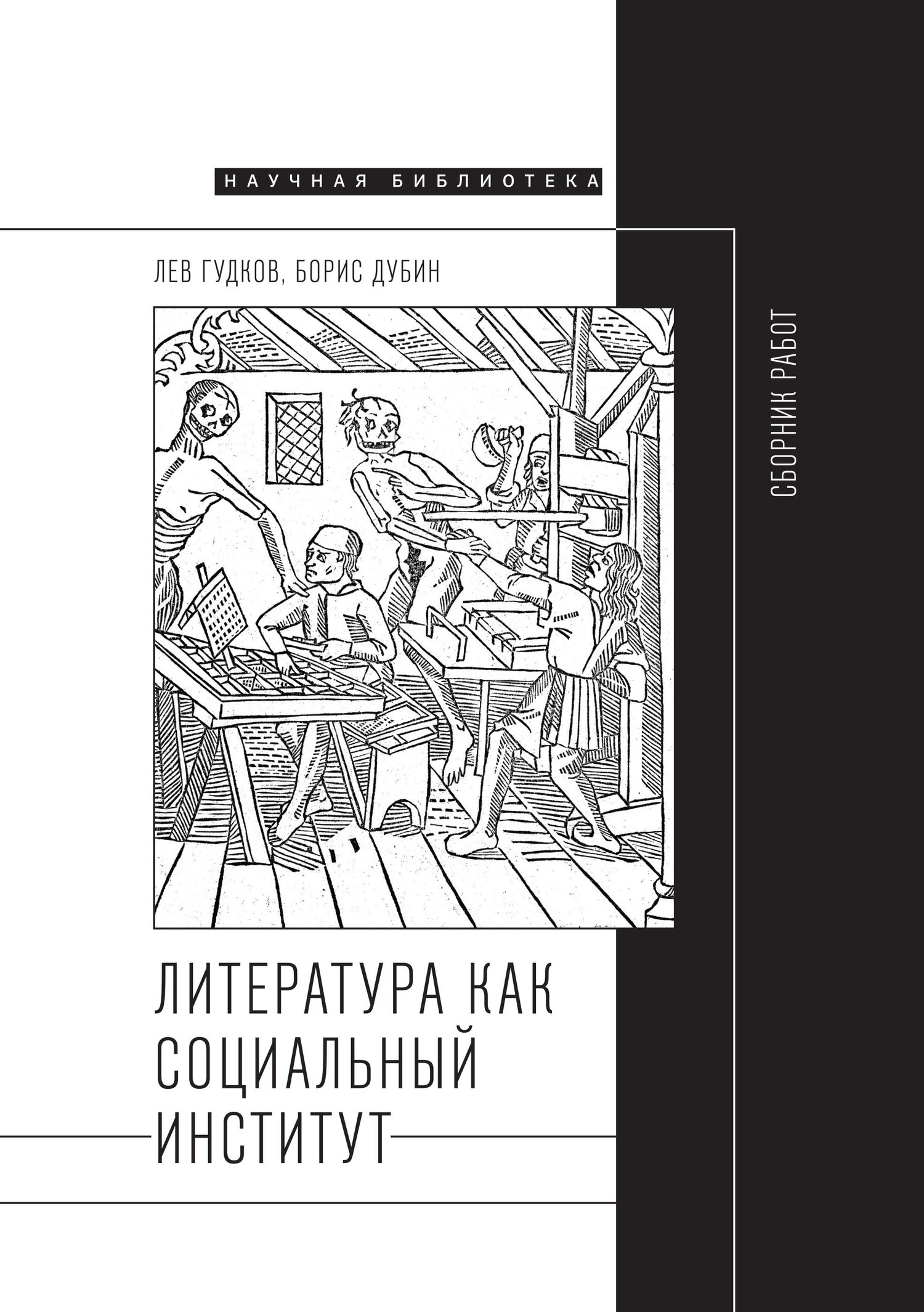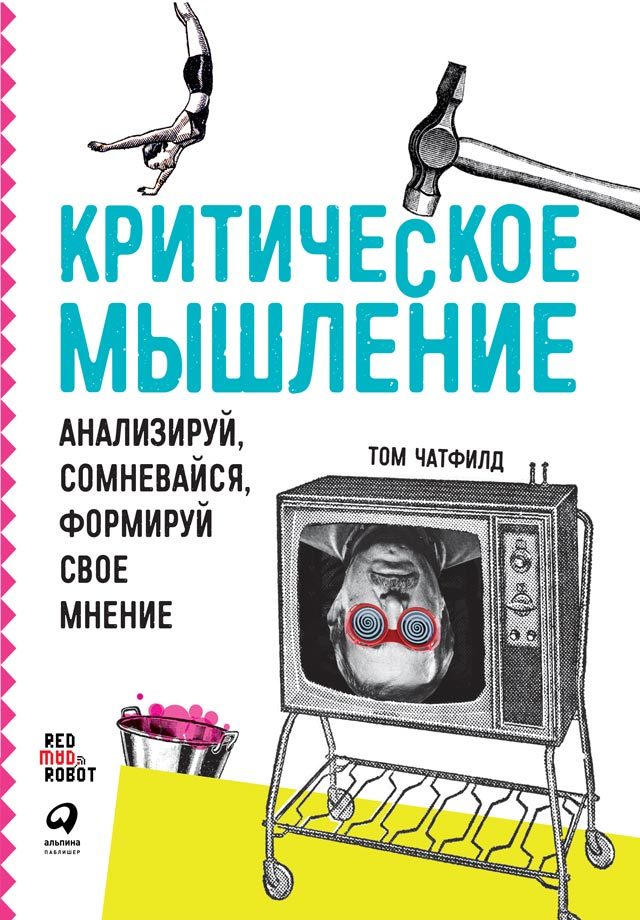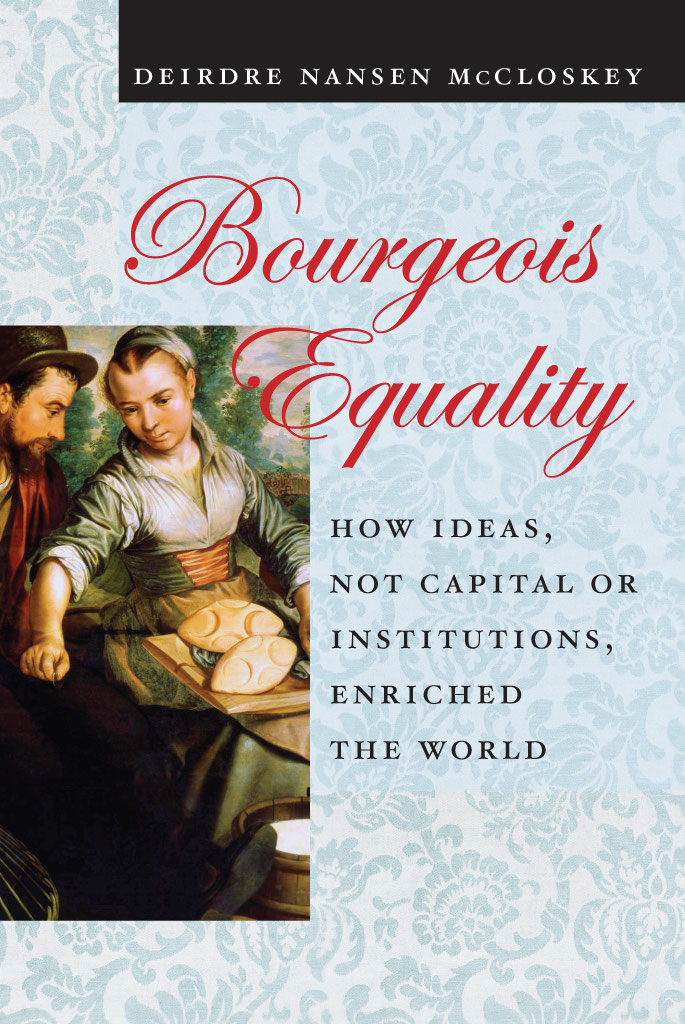Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Александр Марков – профессор факультета истории искусства РГГУ, профессор ВлГУ. Читал гостевые лекции и вел семинары в Колумбийском университете, Городском университете Нью-Йорка, Лозаннском университете, Рурском университете Бохума, Университете Помпеу Фабра в Барселоне, Национальном университете Узбекистана, Университете Турку и в других университетах России и мира. Автор представляет курс лекций о критической теории, важном междисциплинарном течении XX–XXI вв. Особое внимание в курсе уделено социологии, эстетике и теории медиа.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Викторович Марков»: