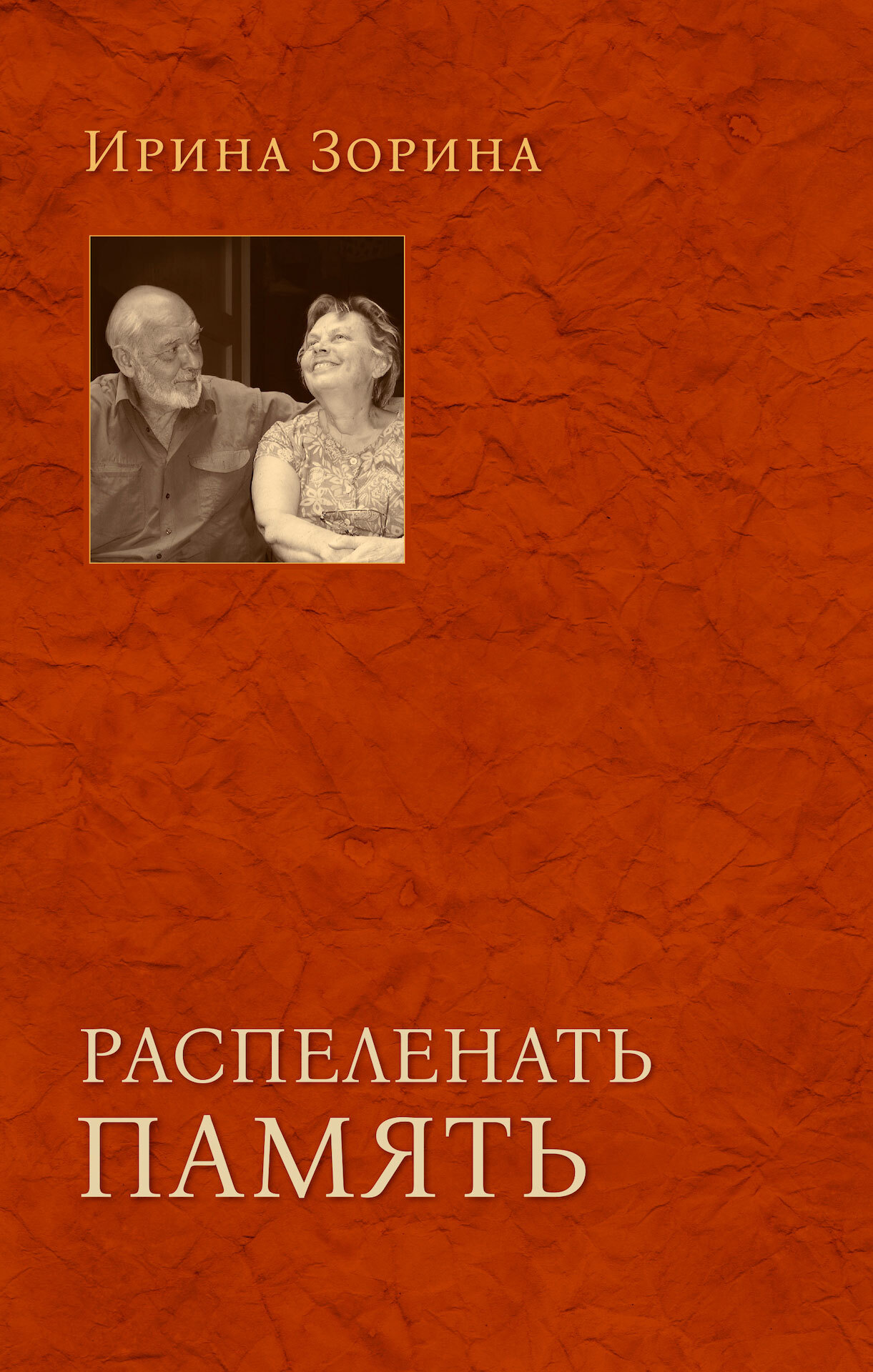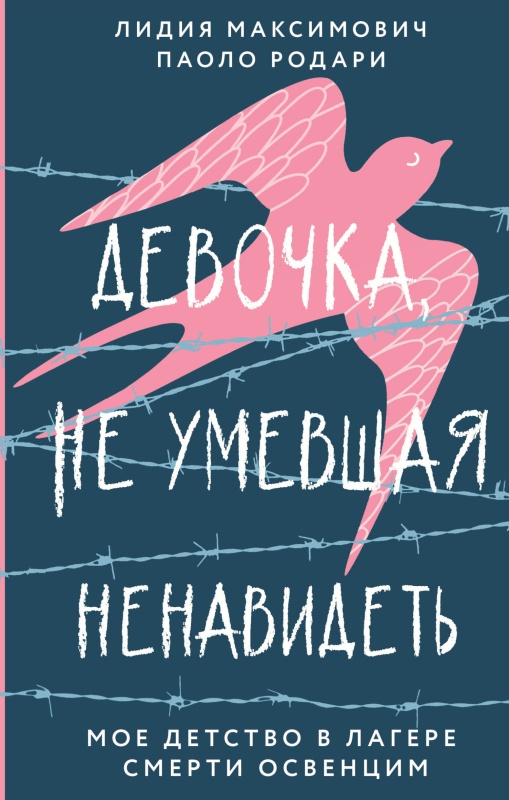Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга Ирины Николаевны Зориной – из разряда подлинных свидетельств поколения шестидесятников о судьбах общества и страны. Ирина Зорина ясно показывает надежды оттепели и утраты глухих 1970-х; анализирует шанс, исторически предоставленный поколению перестройкой. В галерее лиц – лучшие люди только что ушедшей эпохи: Юрий Карякин, Юрий Любимов, Алесь Адамович и другие знаковые фигуры политики (Евгений Примаков) и культуры (Наум Коржавин, Владимир Высоцкий, Эрнст Неизвестный). И. Н. Зорина – историк-испанист, специалист по странам Латинской Америки; вдова Ю. Ф Карякина.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Николаевна Зорина»: