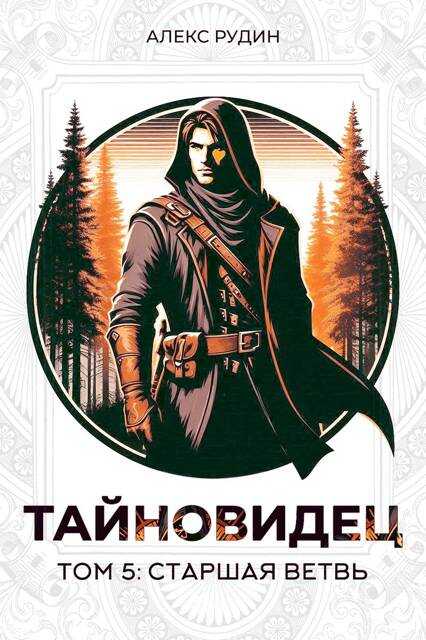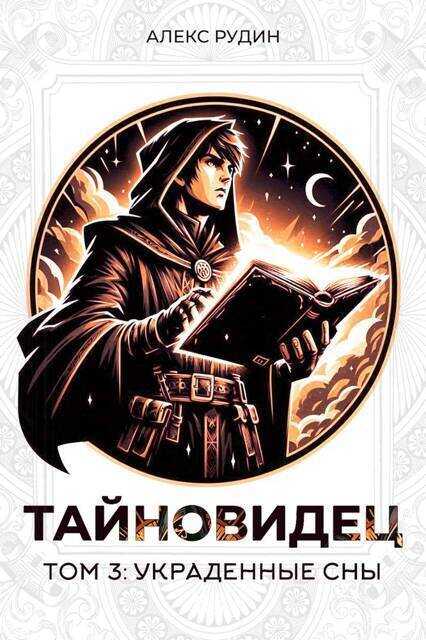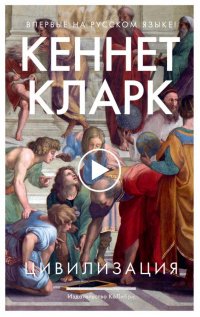Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Судьба подарила мне второй шанс — прожить жизнь в любимой, хоть и давно исчезнувшей стране. Я сделаю всё, чтобы эта жизнь не была напрасной... А ещё исполню свою детскую мечту)
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алекс Рудин»: