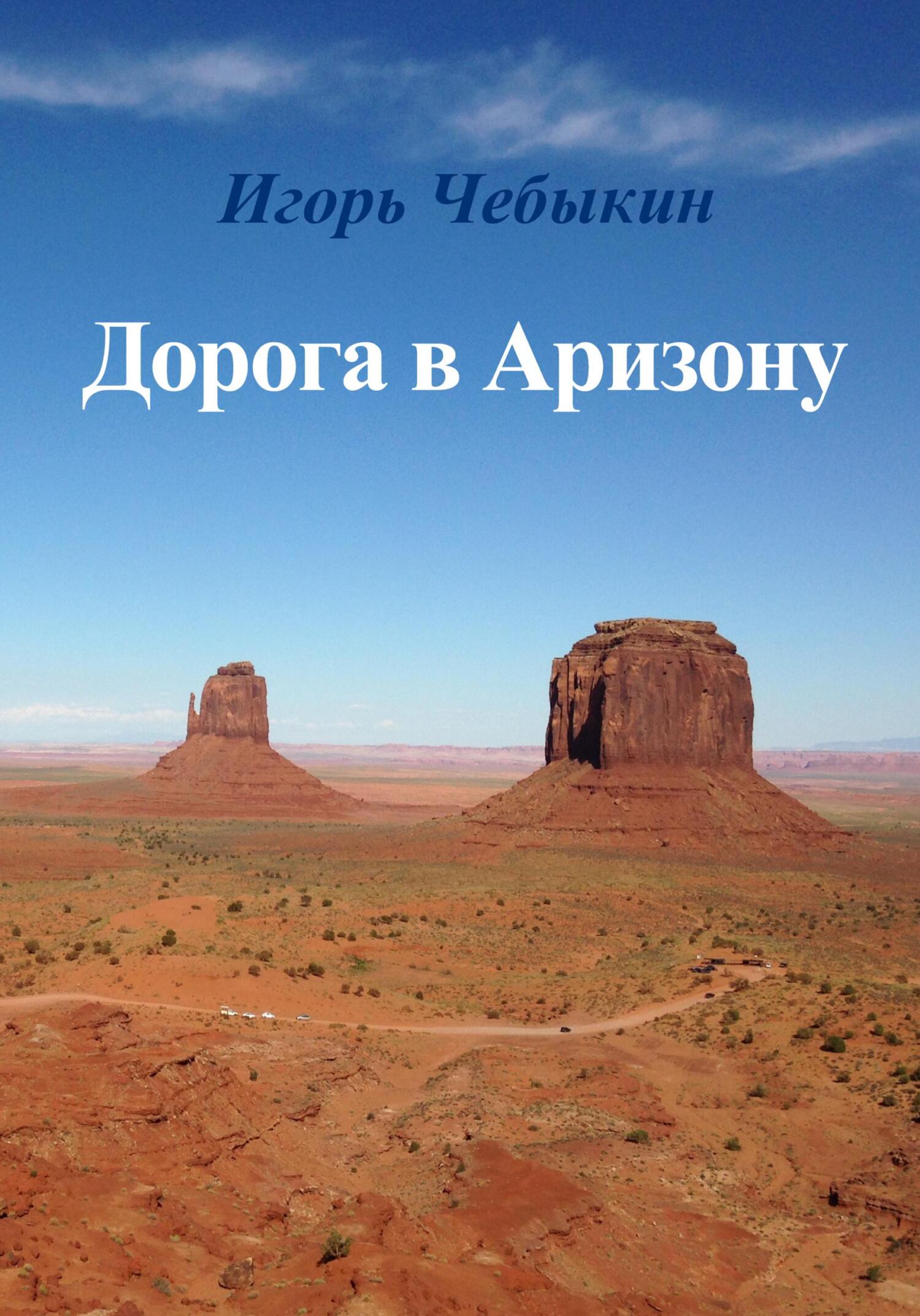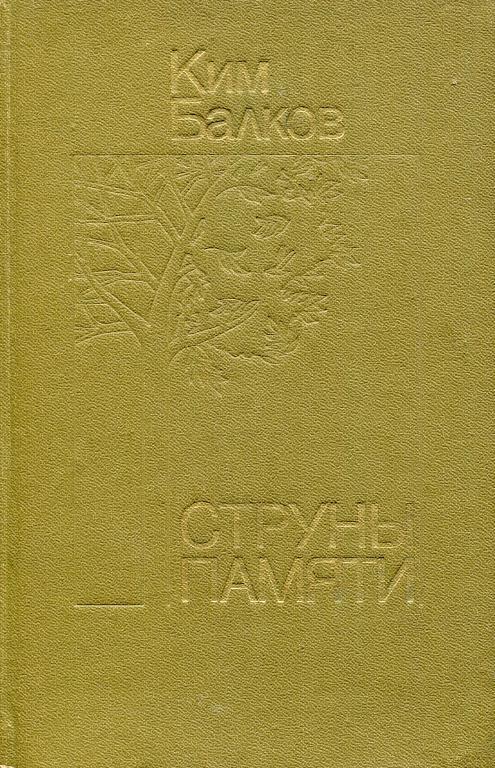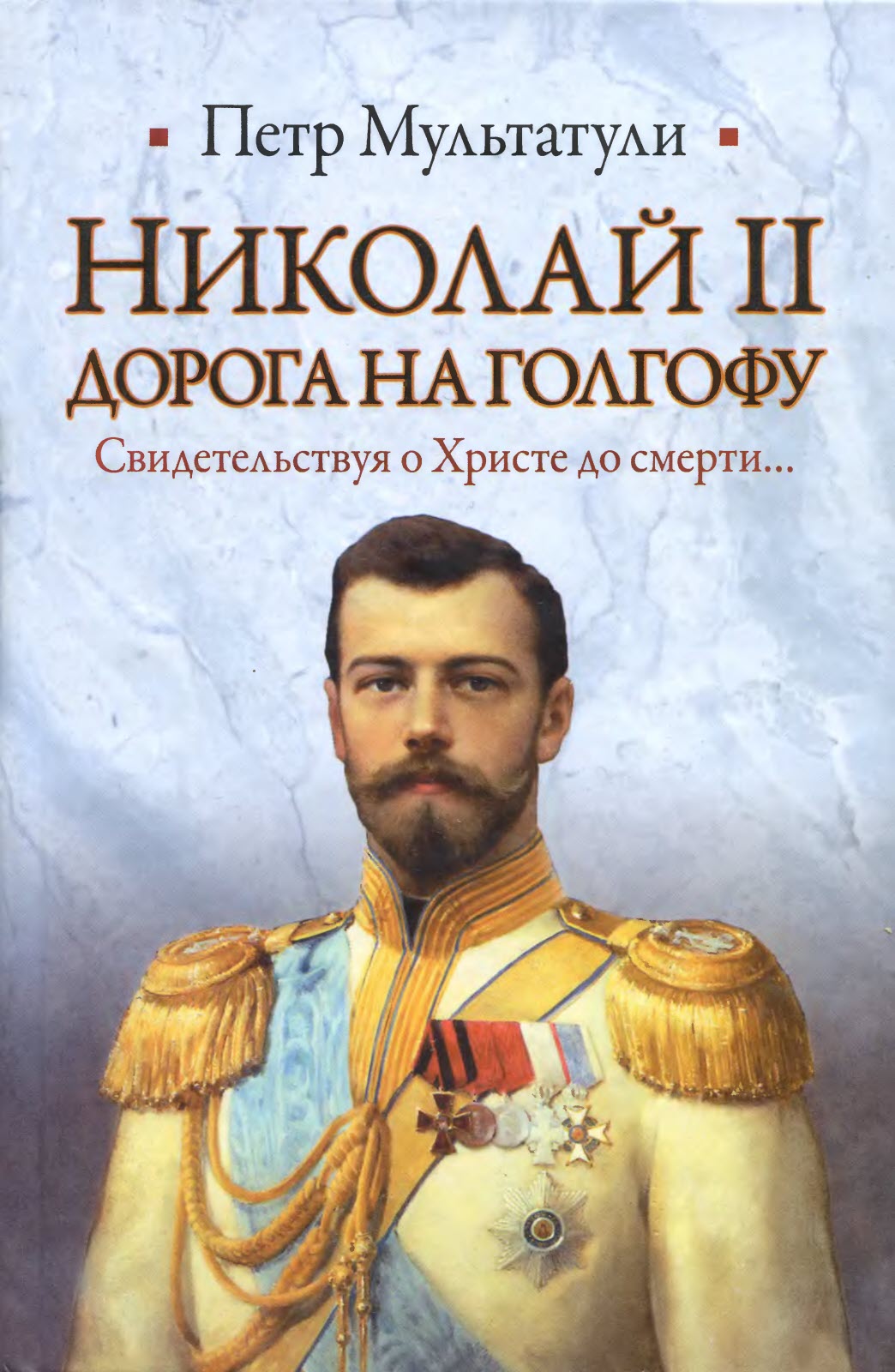Шрифт:
Закладка:
Вещи и снимки деда продолжали жить в комнате молчаливыми недвижными призраками, словно верные слуги, ожидающие возвращения хозяина. Не было лишь самого деда. Теперь предстояло привыкать к его отсутствию, к ватной тишине и пустоте в комнате, прежде наэлектризованной энергией жизнелюбивого человека, не желавшего стареть и подчиняться законам природы и времени. Кровать деда вскоре вынесли из комнаты и вообще из дома, как будто она тоже умерла, не пережив кончины своего владельца, и отправилась на специальное кладбище для кроватей. С ее исчезновением распалась буква "Г", образуемая двумя сросшимися в изголовьях кроватными спинками. Ложе Толика, лишившись своей второй половинки, превратилось в единицу, жалкую и скрипучую от тоски и одиночества. Освободившееся пространство попытались справедливо поделить между оставшейся в комнате мебелью, двигая шкафы, столы и тумбочки. От этого комната приобрела чуть более обновленный и обширный, но от этого еще более опустошенный вид.
Мать, исхудавшую, с лицом, казалось, навсегда утратившим способность улыбаться, спустя пару недель выписали из больницы. Несколько дней она, набираясь сил, которым неоткуда было взяться, провела дома. На самом деле, дома она только ночевала и готовила еду для мужчин, а все остальное время пропадала на кладбище, где вместо временного цинкового мини-обелиска с пятиконечной звездой на могиле деда планировалось установить большой мраморный памятник. Затем мать вернулась на работу. Чувство пустоты, прописавшейся в доме после смерти деда и не желавшей выписываться, не могли изгнать даже регулярные визиты сестры Толика, московской студентки, каждые выходные навещавшей родителей. Не помогало и изменившееся поведение отца. Общее горе и осознание собственной стержневой и цементирующей мужской миссии, похоже, заставили отца одуматься, расстаться со своей бесстыжей чаровницей и вернуться в семью. По крайней мере, они заставляли его каждый вечер после работы мчаться домой и с виновато-заботливым видом вертеться подле ослабевшей супруги. Бесцеремонные телефонные звонки, тем не менее, не желали с этим считаться, вынуждая вновь и вновь биться в истерике импортный телефонный аппарат кремового цвета. Однако отец в таких случаях не снимал трубку, как раньше, играя желваками, а отработанным движением приподнимал ее и затем с силой опускал на рычаг, будто припечатывая кого-то невидимого, но настырного. Однажды телефон зазвонил в тот момент, когда дома был один Толик. "Олега Петровича, будьте добры", — попросила трубка молодым женским голосом. "А кто его спрашивает?". — "Знакомая". "Я вам предлагаю познакомиться с кем-нибудь другим, а сюда больше не звоните", — отчеканил Толик и положил трубку.
В школе было еще тягостнее, чем дома. Наступила самая ответственная и канительная пора завершающегося учебного полугодия, заставшая врасплох Тэтэ, ошарашенного и морально раздавленного уходом деда. Словно лишенный аппетита пациент, через силу запихивающий в себя необходимую пищу, он принуждал себя открывать учебники, раз за разом перечитывал нудные главы и параграфы, пытаясь удержать в памяти хоть что-нибудь, но память, великолепная доселе память Тэтэ, сейчас не удерживала почти ничего, подобно желудку долго голодавшего человека. Венька, Ника и другие одноклассники всеми силами помогали ему: давали списывать домашнее задание и контрольные и, рискуя собственными головами, самозабвенно подсказывали на уроках. Впрочем, и от этого толку вышло немного. Учителя на первых порах редко вызывали Толика к доске, понимая его сложное душевное состояние. Но потом все встало на свои рельсы, поблажки и привилегии закончились, и, как следствие, Толик нахватал несколько неминуемых в такой ситуации троек по итогам полугодия. Гуманность проявил лишь Костя Княжич, даровавший ему полугодовую четверку, но взявший с Толика обещание, что на каникулах тот зайдет к нему домой и отчитается по пройденному материалу.
Тэтэ пришел в себя в самом конце изматывающего марш-броска, именуемого первым полугодием. Чудодейственным глотком оживляющего эликсира стала для него предновогодняя школьная дискотека. В полутьме актового зала бесновалась цветомузыка, порхали, словно лесные эльфы в летнюю ночь, отблески покрытого зеркальной чешуей шара под потолком. Весь вечер Толик с Никой были вместе, сокращаясь, как одно большое сердце, в такт быстрому диско, кружась под звуки "Гуд бай, май лав, гуд бай" Руссоса и "Двадцать лет спустя" Антонова. Перс барражировал неподалеку, но не делал попыток вмешаться. Лишь глядел на Толика долгим пристальным взглядом, как тогда — после неудачной попытки Тэтэ прицепить прищепку на юбку Тамары. Однако на сей раз это не был взгляд любопытствующего врача-психиатра. Это был взгляд шахматиста, обдумывающего виртуозную и тонкую комбинацию, пока невидимую для противника, но уже расправляющую крылья и выпускающую когти с тем, чтобы через несколько ходов вдруг вырасти перед ним неумолимым хищником и проглотить его вместе со всем его беспомощным войском. Толик не замечал этого взгляда. А если бы и заметил, то наплевал бы с пожарной каланчи на Перса и его сеанс гипноза. Толик не хотел замечать никого вокруг, кроме своей подруги. Положив ей руки на талию, чувствуя под влажными от волнения ладонями, под ее платьем проступающие швы и полоски тех секретных предметов женской одежды, от одной мысли о которых лицу становилось еще жарче, чувствуя ее ладони на собственных плечах, Толик сознавал, что любовь и вкус к жизни возвращаются к нему посвежевшими и окрепшими. Он победил и теперь получает заслуженную награду. Крылатая богиня Ника птицей опустилась на его