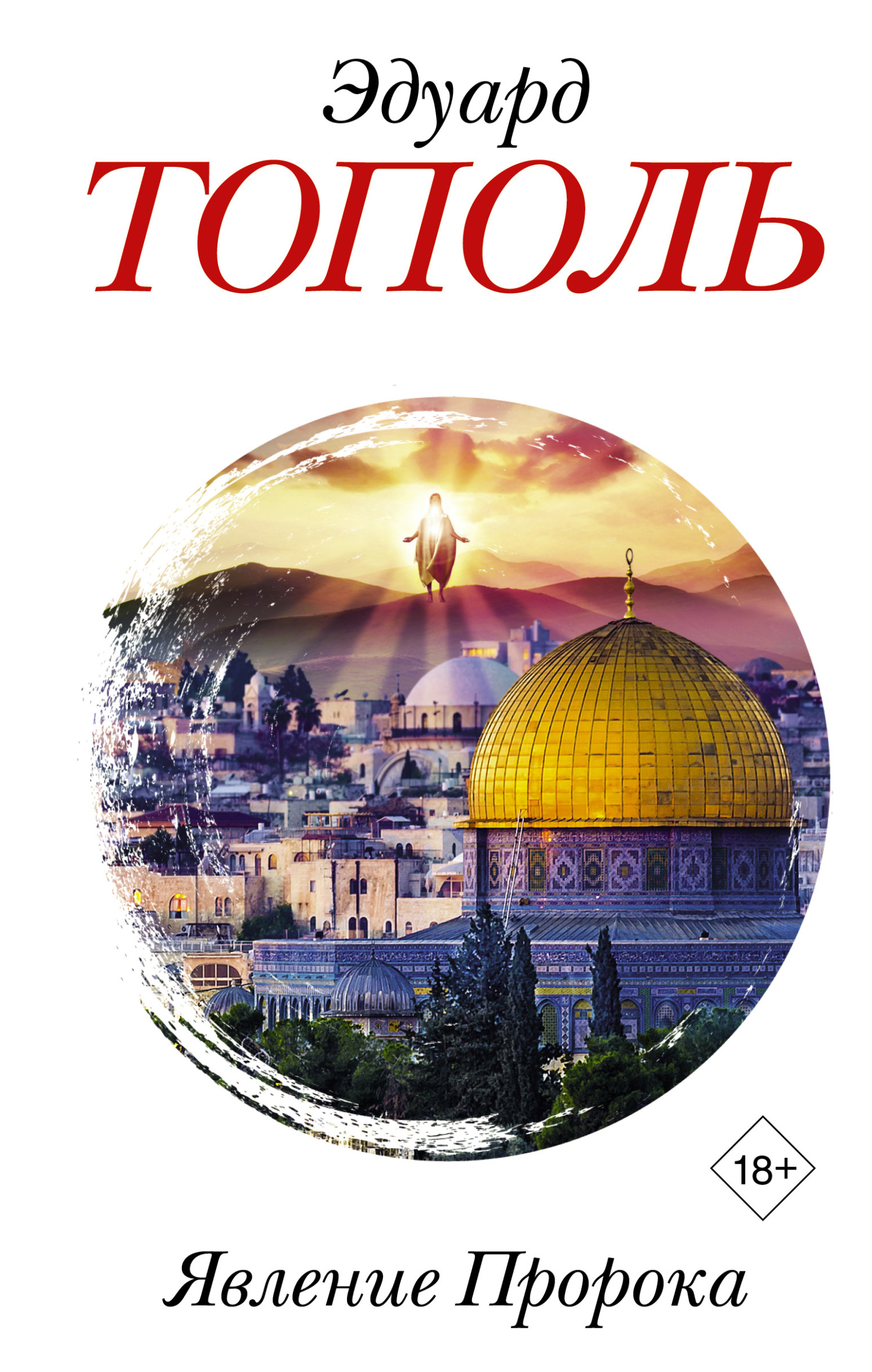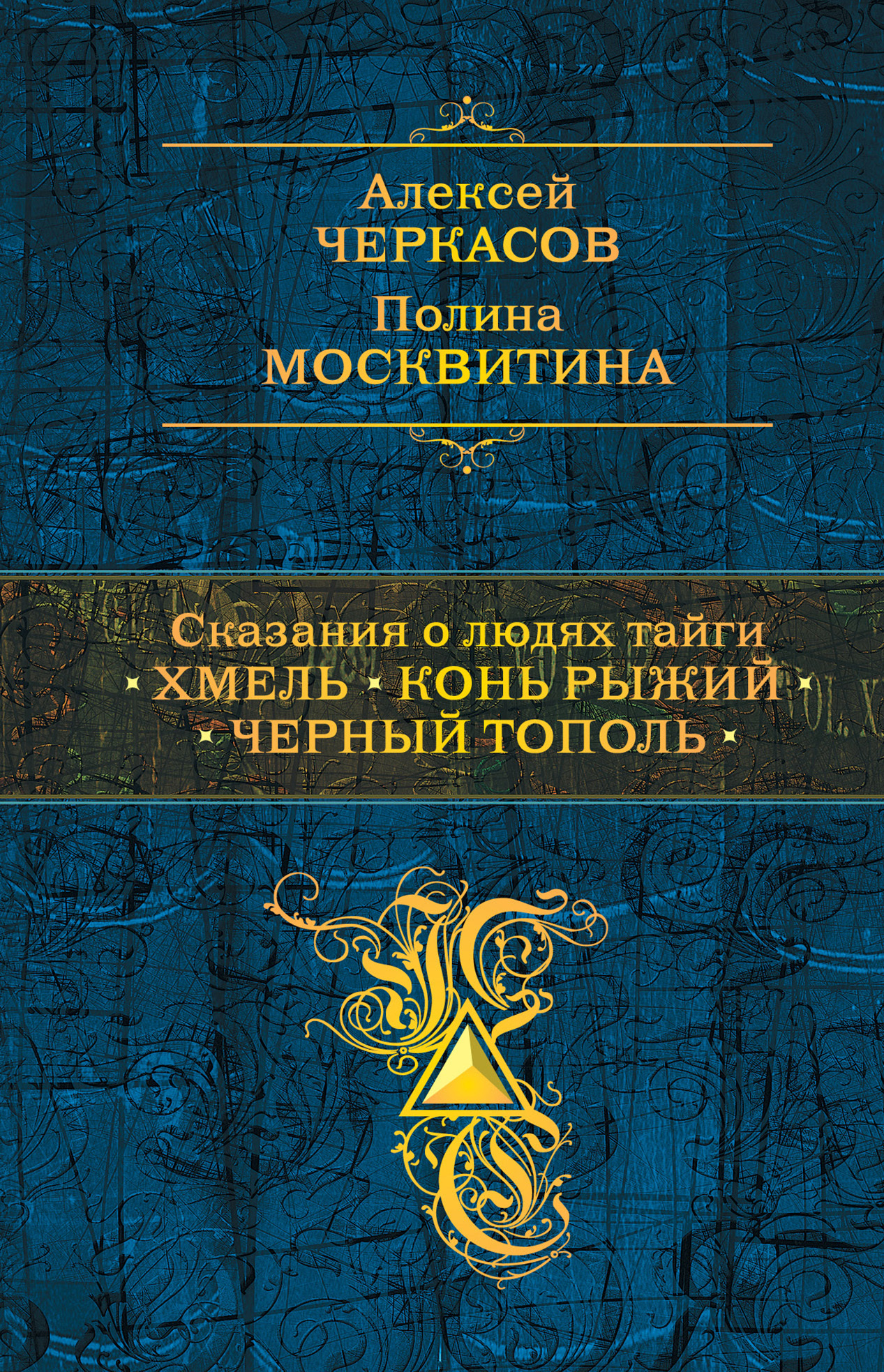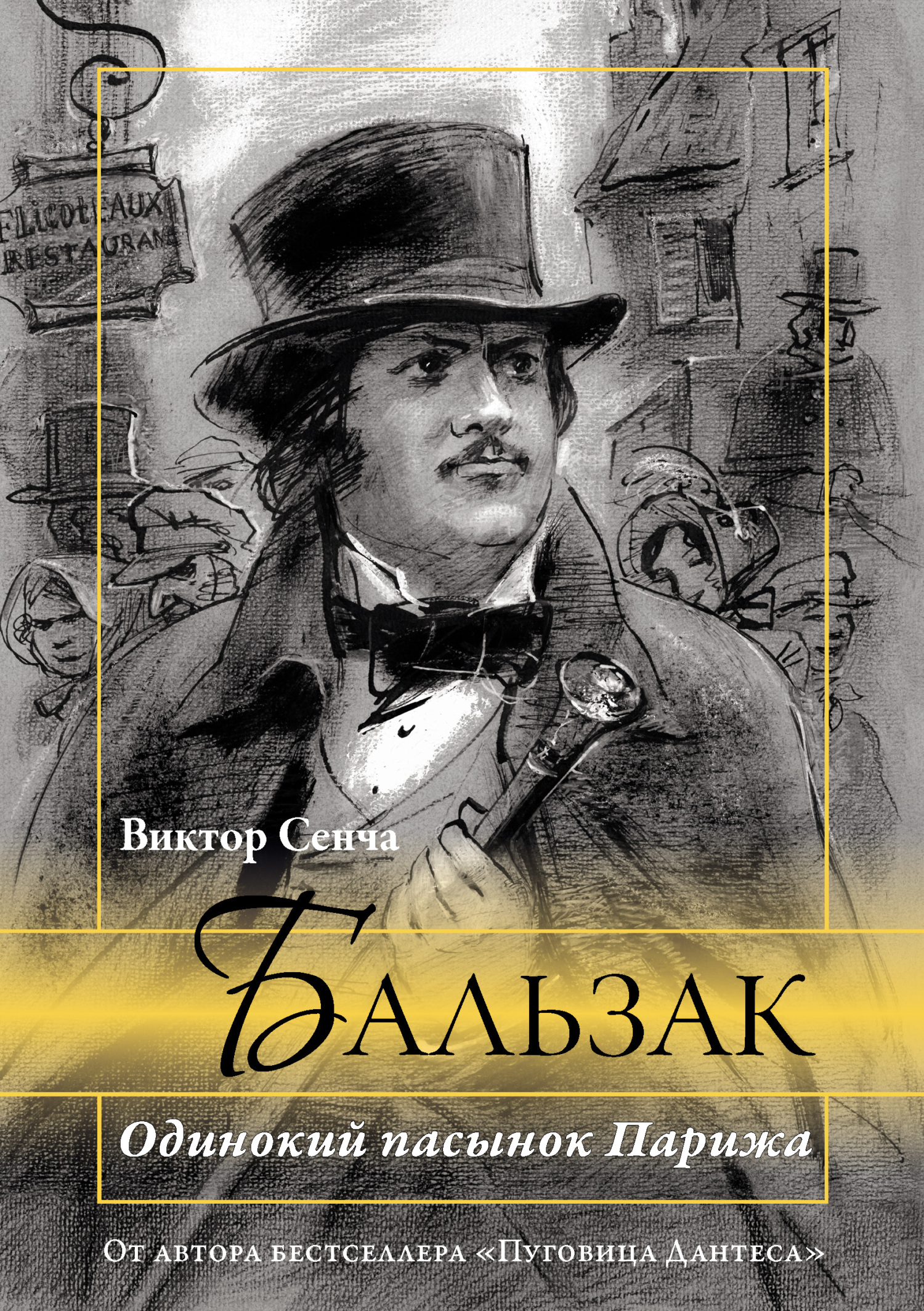Шрифт:
Закладка:
Предлагаемая читателю книга (написанная в октябре 1989 года) снабжена своеобразным эпиграфом: «Все события этого романа абсолютно подлинные, в чем можно убедиться, заглянув в завтрашние газеты». Каждый читатель без труда вспомнит легко узнаваемые события: попытка возврата прежней власти в стране; использование силовых структур; политические комбинации; изоляция президента; чрезвычайное положение; стихийные действия народа, выступавшего против режима. Этому ощущению способствуют и знакомые лица персонажей (Горбачев, Раиса, Бельцин, Вязов и другие. Детективная манера изложения событий держит читателя в постоянном напряжении, хотя финал драмы, изложенной в первой части, хорошо известен, и вошел в историю, как три незабываемых августовских дня.