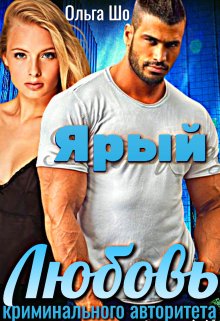Шрифт:
Закладка:
В этом сборнике десять историй, исследующих прихотливые стороны нашего сознания. Через тонкие, глубоко психологичные тексты авторы умело разбирают различные ментальные расстройства и травмы.Как достичь исцеления – убежать от себя или посмотреть в лицо своим призракам? На этот вопрос через свое творчество пытаются ответить Марина Васильева, Микаэль Дессе, Ирина Костарева, Диана Лукина, Люба Макаревская, Оля Птицева, Екатерина Рубинская, Виктория Сальникова, Линда Сауле, Саша Степанова.«Мне нравится лицо современной русской литературы: оно молодое, красивое, дерзкое, ничего не боящееся. Сборник "Помутнение" объединил такие разные рассказы: от переживаний художника и детективной истории до постмодернистского потока сознания», – Мария Головей, литературный редактор