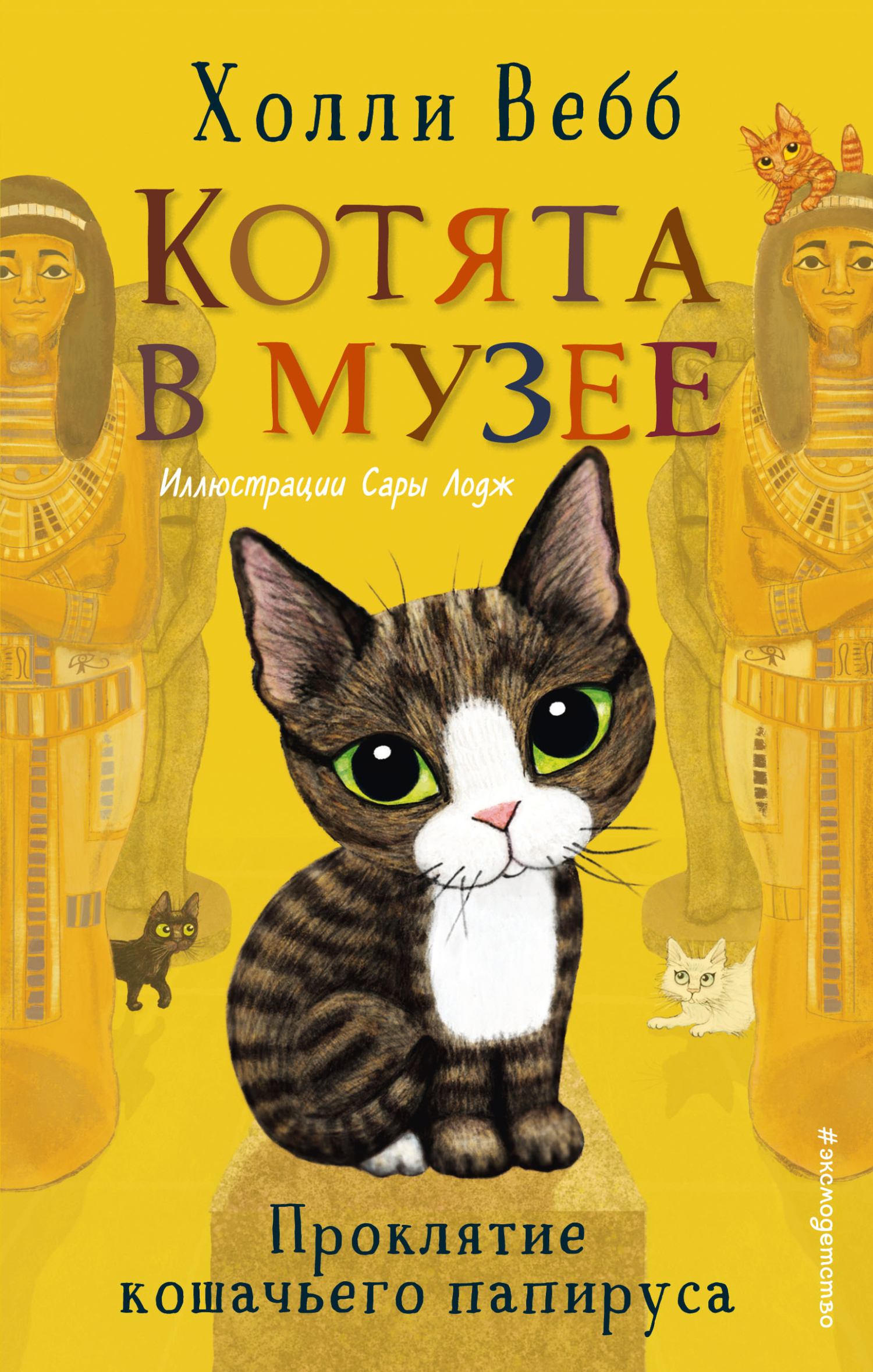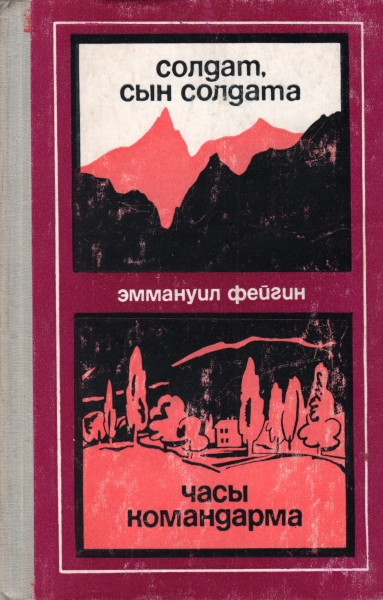Шрифт:
Закладка:
Новый роман Сергея Алексеева погрузит читателя во времена Александра Македонского, когда мир был разделён на цивилизацию и варварство, просвещённость и дикость. Но что является настоящей культурой – изящные искусства и философия или исконные знания, обычаи и традиции?.. И почему дерзкая попытка великого полководца, затеявшего поход на Восток, соединить два мира, чтобы победить варварство Персии, Великой Скуфи, Индии и утвердить не только свою власть в мире, но и просвещённость Эллады, закончилась его возвращением в бочке с мёдом, который использовали тогда для бальзамирования?Почему его учитель, великий философ Аристотель, вынудил своего ученика сжечь священный список Авесты, захваченный в Персеполе – сакральной столице Персии, и обрёк на огонь также индийские Веды и прочие древние знания? И в чьих руках завоеватель мира и освобождавший духовное пространство человечества для утверждения своей философии мыслитель были лишь игрушками?..Великий мастер интриги и слова откроет в романе многие сакральные тайны.