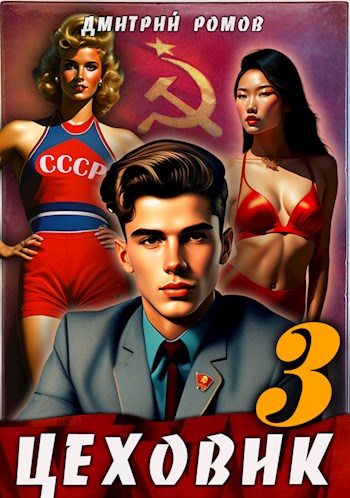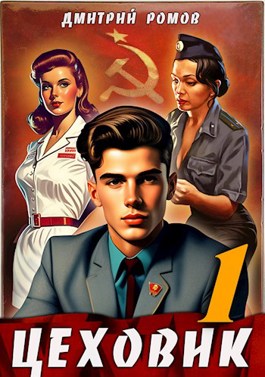Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
За два месяца новой жизни мне удалось кое-чего добиться. И если присмотреться можно даже различить основание той конструкции, что приведёт нас на вершину мира. Главное, не делать ошибок и планомерно и методично работать, двигаясь к цели. Да вот только обстоятельства, нередко ставят под угрозу все мои усилия. Продолжение приключений Егора Брагина, попавшего из нашего времени в 1980 год
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Ромов»:

![Большие дела [СИ] - Дмитрий Ромов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)