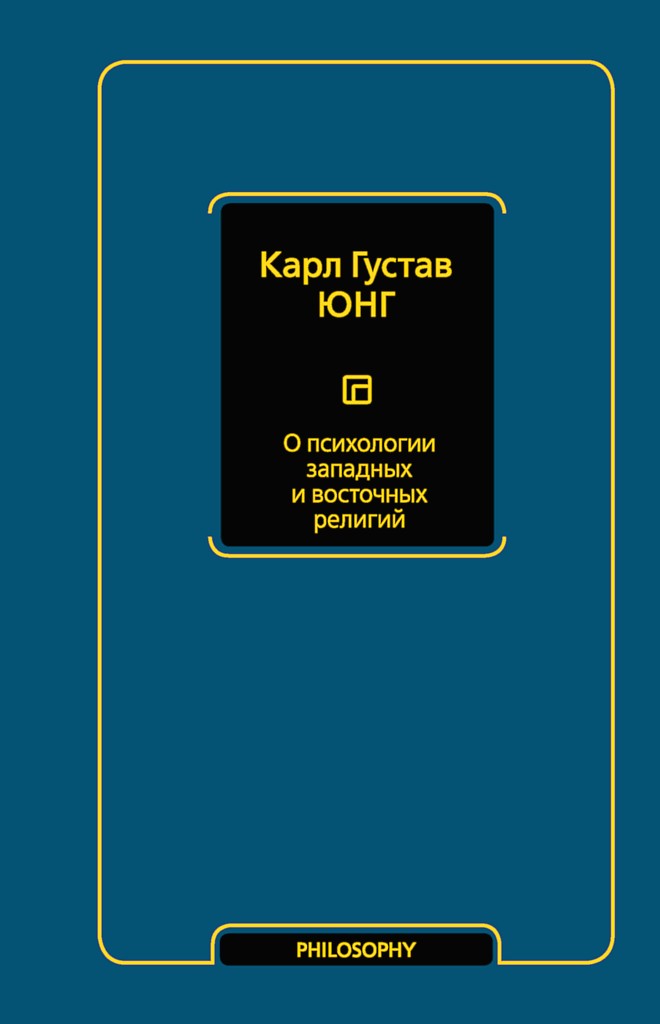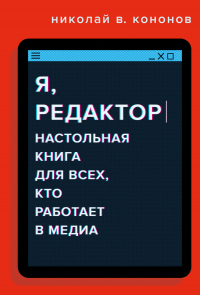Шрифт:
Закладка:
Карл Густав Юнг (1875–1961) – швейцарский психолог, психотерапевт, философ, социолог и культуролог – один из выдающихся ученых ХХ столетия, ученик Зигмунда Фрейда, основоположник аналитической психологии и психотерапии, основатель и президент Швейцарского общества практической психологии.В настоящем сборнике представлены работы, которые знакомят читателя с фундаментальными теоретическими положениями и основными рабочими гипотезами автора. В этих работах Юнг излагает свои идеи о психической энергии, об инстинктах и бессознательном, о душе и смерти, либидо и комплексах, а также свою поистине революционную теорию синхронистичности, которую долго не решался представить на суд читателей и коллег. В этой авангардной и во многом спорной теории Юнг попытался установить связь между открытиями современной физики и достижениями аналитической психологии в той пограничной области реальности, которая и по сей день остается малоизученной и труднодоступной для понимания.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.