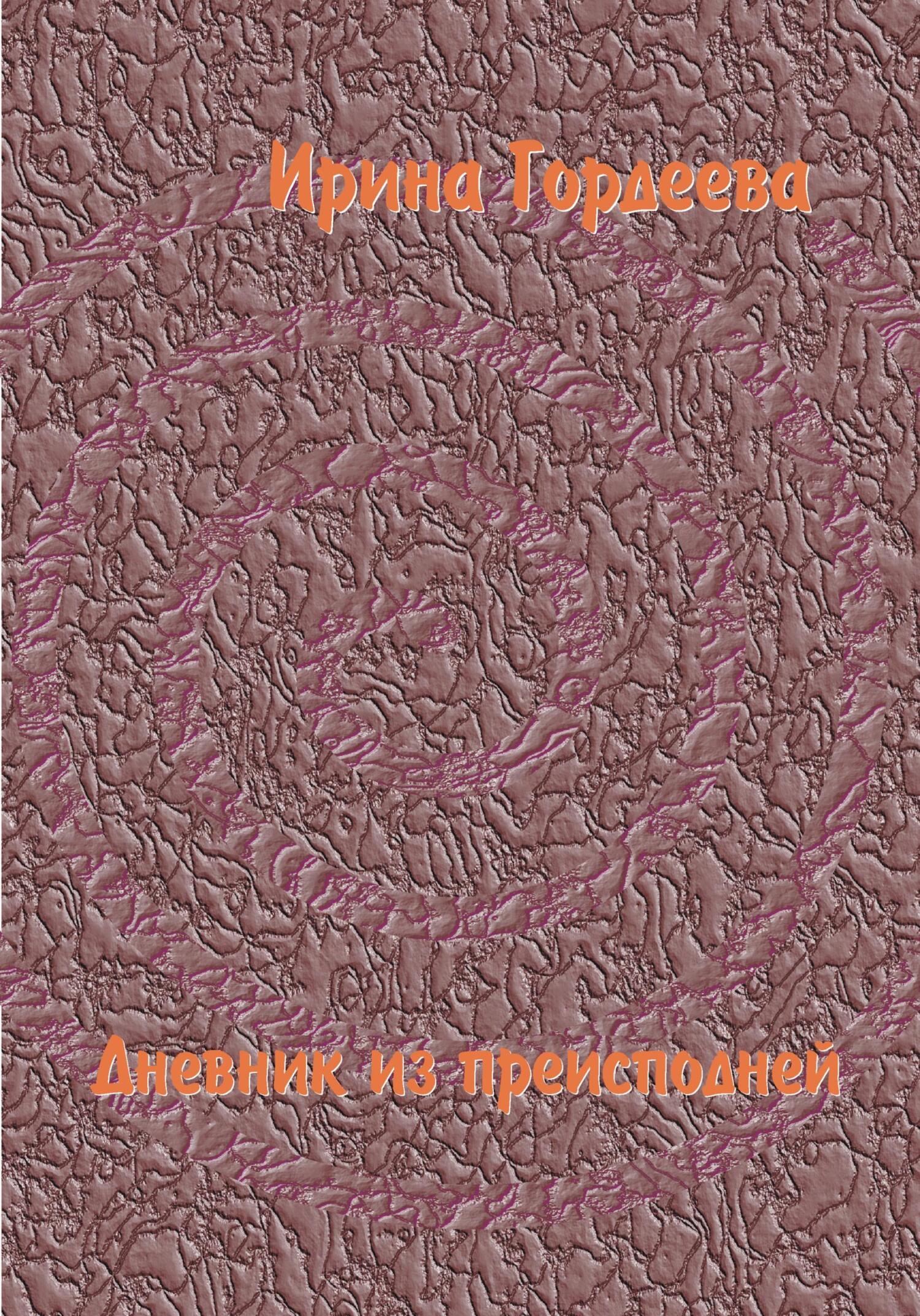Шрифт:
Закладка:
Гордеева Ирина. Дневник из преисподней. 2018. — 358 с. Роман «Дневник из преисподней» рассказывает о нелегкой и трагичной борьбе обыкновенной девушки за свои принципы, идеалы и любовь. Ее жизнь полна сомнений, а также событий, неподвластных ее воле и желаниям, а чувства заставляют ее страдать и одновременно любить даже того, кто, казалось, любви недостоин. В первой главе романа читатель познакомится с главной героиней, чье прошлое неожиданно настигнет ее и ввергнет в отчаяние, поставит перед выбором, сделать который невозможно. Лишь тот, кто знает о боли больше других, сможет добраться до второй главы, возможно, даже до конца самого романа, написанного в форме дневника. Воспоминания главной героини о пятнадцати прожитых годах в мире, где правят принцы и короли, не делают ее особенной. Она защищает то, во что верит, и людей, которые ее окружают. Она ценит чужие жизни больше своей, и читатель не останется равнодушным к ее мыслям и чувствам.