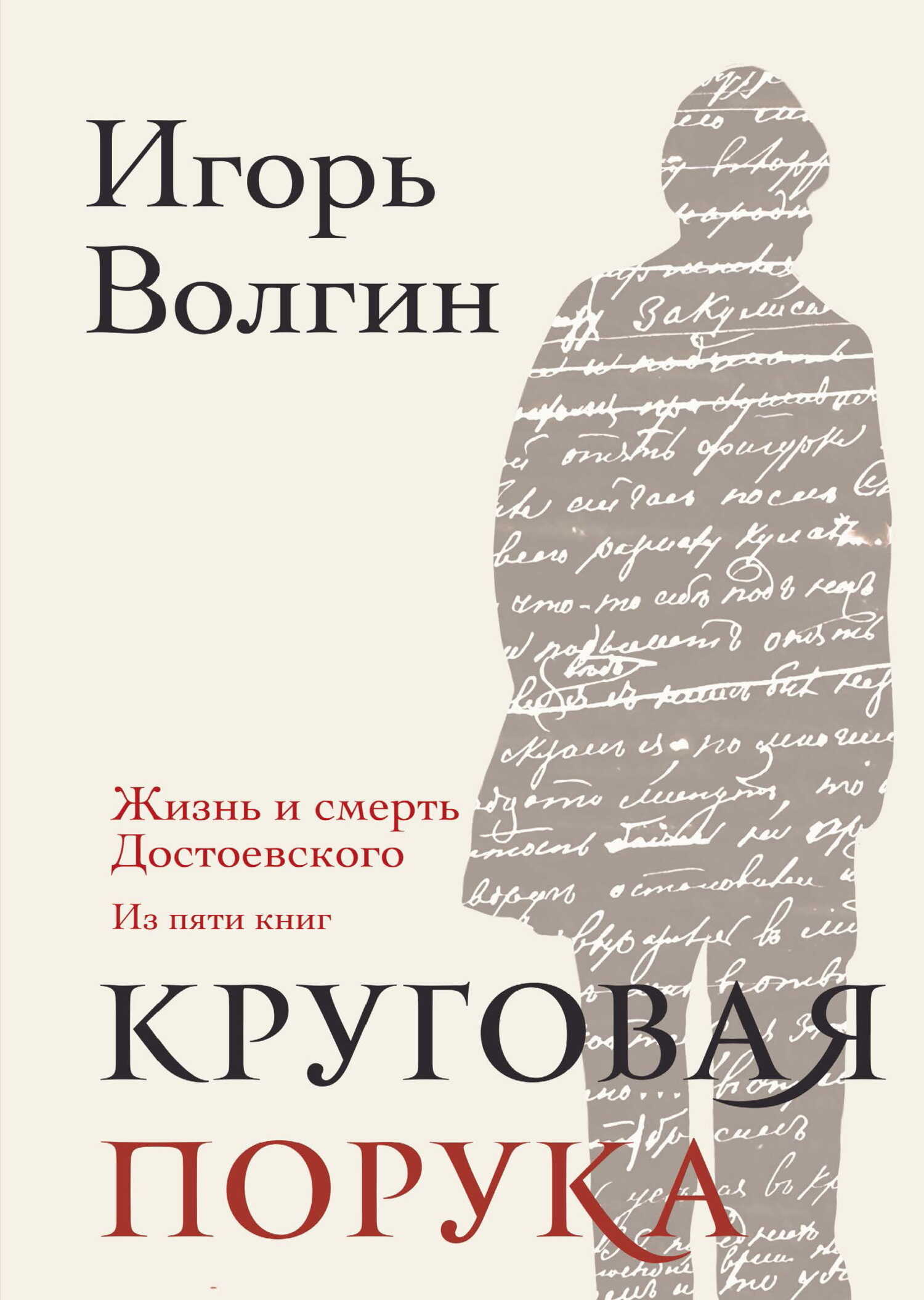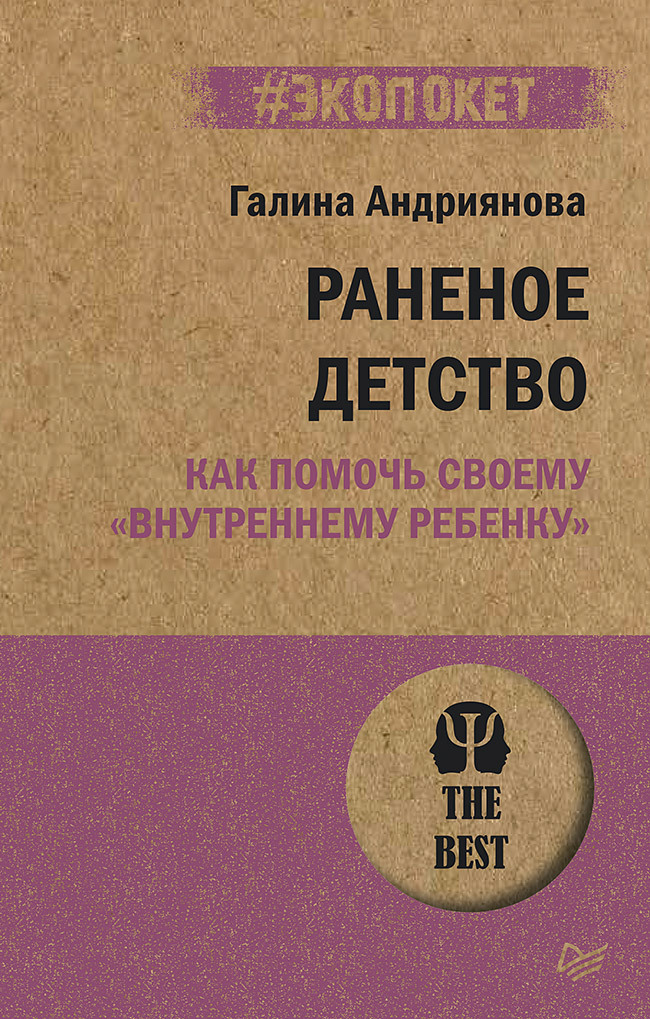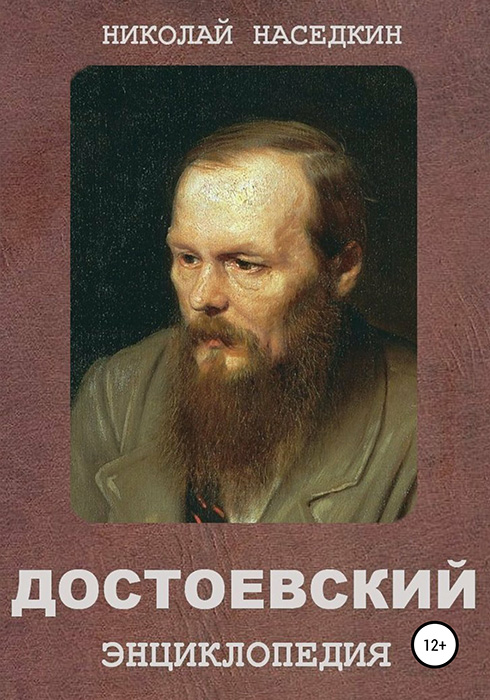Шрифт:
Закладка:
Пожалуй, последнее его искушение на этом пути – Николай Александрович Спешнев.
Но о Спешневе разговор будет отдельный. Пока же дело идёт к развязке: часы петербургских мечтателей уже сочтены.
Из главы 7
Арестование на рассвете
По высочайшему повелению
Апреля десятого числа был знак. В маскараде, имевшем место в Дворянском собрании (тема маскарада является вновь, возвещая о скором финале), некая маска приблизится к Пальму и интимно шепнёт ему о необходимости соблюдать осторожность. Петрашевский, в свою очередь, полагает, что всё это вздор: попросту их решила разыграть девка Милютина (которую иные исследователи почему-то предпочитают именовать горничной: меж тем персонаж этот, возможно, по роду занятий соответствует плещеевской Насте). Хороший французский выговор таинственной незнакомки заставляет Пальма отвергнуть такое предположение.
Николай I
Государь узнал о них «через баб» – о близком финале их извещают теперь способом аналогичным.
15 апреля, на предпоследнем собрании в Коломне, Достоевский оглашает знаменитое Письмо.
В те же самые дни чтеца одолевают и другие заботы. Он в очередной раз умоляет Краевского прислать ему некоторую сумму (спешневские деньги, надо полагать, давно уже вышли). «Что Вам 15 руб.? А мне это будет много… Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в “От<ечественных> записках”»[191].
Наступает последний вечер: пятница, 22 апреля 1849 года.
Антонелли аккуратно подсчитывает, что на сей раз собралось двенадцать человек – не считая хозяина. Засим перечисляются имена. «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня».
«Послушайте, молодой человек! – якобы молвил однажды граф П. А. Пален (главное действующее лицо в заговоре, поведшем к умерщвлению государя) тёзке убиенного императора, Пестелю Павлу Ивановичу. – Если вы хотите сделать что-нибудь путем тайного общества, то это глупости, потому что, если вас двенадцать, двенадцатый непременно окажется предателем…»
Антонелли оказался тринадцатым.
Но чем же занят в эти часы один из отсутствующих учеников?
В шесть часов пополудни Андрей Михайлович Достоевский, проходя по Загородному проспекту, неожиданно сталкивается с братом Фёдором. Брат говорит, что хочет поехать на лето куда-нибудь подлечиться.
Они условливаются сойтись послезавтра, в воскресенье, – у брата Михаила Михайловича.
Всё, о чём было говорено, сбудется с некоторым перекосом. Один из беседующих действительно переменит обстановку: у него будет веселое лето. Сойдутся же они вновь даже чуть раньше, чем предполагали, – через какие-нибудь двенадцать часов, в здании у Цепного моста. (Лишь благодаря досадной случайности третий брат будет отсутствовать.)
Мы забыли упомянуть, что беседа братьев протекает на фоне церкви Семёновского полка. У режиссёра хватило такта не втаскивать в кадр Семёновский плац.
Меж тем, множа грозные предвестья, не на шутку разыгрывается непогода. В семь часов вечера вымокший до нитки прохожий стучится в квартиру Яновского. Они пьют с доктором чай; у огня сушатся сапоги гостя. В девять Достоевский поднимается: пора в Коломну. Дождь продолжает лить, как бы заграждая дорогу. У Достоевского нет денег на извозчика – и из железной копилки, назначенной для вспомоществования нищим, извлекаются шесть серебряных пятаков. Вскоре на берегу Иртыша он получит первое своё подаяние: четверть медной копейки.
Судьба предпочитает косвенные намеки.
Итак, в девять он покидает Яновского. Он уходит в ночь, и следы его теряются во мраке. Не будем вычеркивать предыдущую фразу, ибо со следами действительно наблюдается известная путаница.
Принято считать, как нечто само собой разумеющееся, что Достоевский участвовал в последнем вечере у Петрашевского[192]. Откуда это известно?. Попробуем не спеша перечитать документы.
Яновский утверждает, что его гость прямо от него направился в Коломну. Допустим, что у гостя действительно было такое намерение. Однако до Петрашевского он не дошёл.
Утром 23 апреля, донося о вчерашнем вечере (почти все участники которого уже находятся в III Отделении), Антонелли не упоминает о Достоевском. Зато он излагает речь Баласогло, который после ужина попросил у присутствующих позволения «излить желчь». Присутствующие охотно позволили, и тогда (повествует самый внимательный из них) почему-то досталось «бедным, несчастным литераторам» (в эпитетах Антонелли можно уловить ноту профессиональной солидарности, он как-никак тоже пишет). При этом Баласогло подверг персональному осуждению автора «Неточки Незвановой»[193]. Находись автор тут же, у него, надо думать, нашлись бы возражения, да и его обвинитель не был бы столь суров.
Достоевский – последняя из тем, обсуждаемых в Коломне: под занавес.
Но прежде, чем занавес упадёт и тьма поглотит действующих лиц, ещё раз зададимся вопросом: где наш герой?
Михаил Михайлович известил следствие: «Мне крайне нужно было говорить с братом… В надежде увидеться с ним я пошел к г-ну Петрашевскому… Но брата там не было»[194]. (Присутствие самого Михаила Михайловича аккуратно зафиксировано ночным стенографом.)
И, наконец, решающее свидетельство.
«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева…»[195] Это говорит сам Достоевский.
Итак, Достоевский был у Григорьева. Не совсем ясно, почему он пренебрёг возможностью посетить собрание, где всего неделю назад так блистательно выступил в качестве чтеца. Впрочем, у него и Григорьева могли быть свои заботы. Достоевский, кстати, не утверждает, что он был единственный гость.
Никто из членов спешневской «семёрки» (кроме поручика Момбелли) не присутствует у Петрашевского в эту ночь.
Вряд ли это случайность.
Очевидно, накануне ареста все, кто связан между собой замыслом типографии, проявляют повышенную нервозность (не этим ли объясняется возможный перенос печатного станка – или его частей – от Спешнева к Мордвинову: «за день, за два до ареста», как говорит Майков?). Может быть, до них доходят какие-то тревожные слухи? Во всяком случае, из всего круга петрашевцев ареста должны были в первую очередь опасаться именно они – те, кто был вовлечен в настоящий заговор.
Но вернёмся к Григорьеву.
«Фёдор задумался, – повествует Чувствительный Биограф, – наряду с явно непривлекательными чертами в этом Григорьеве открылось и что-то симпатичное». «Фёдор», очевидно, уже догадывается, что «непривлекательные черты» Григорьева станут ещё непривлекательнее во время допросов.
Далее, если верить тому же повествователю, Достоевский, испытывая мужество хозяина, сообщает ему о предсказаниях таинственной маски. В неописуемом ужасе Григорьев хватает своего гостя за рукав. «Теперь его нижняя челюсть мелко тряслась, и в душе Фёдора поднялась волна отвращения… Ему стало скучно и захотелось спать» – так психологически безупречно завершает сцену наш романист.
«Я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас заснул»[196], – вот всё, что сообщает по этому поводу сам герой. «Постель раскрыта, простыни