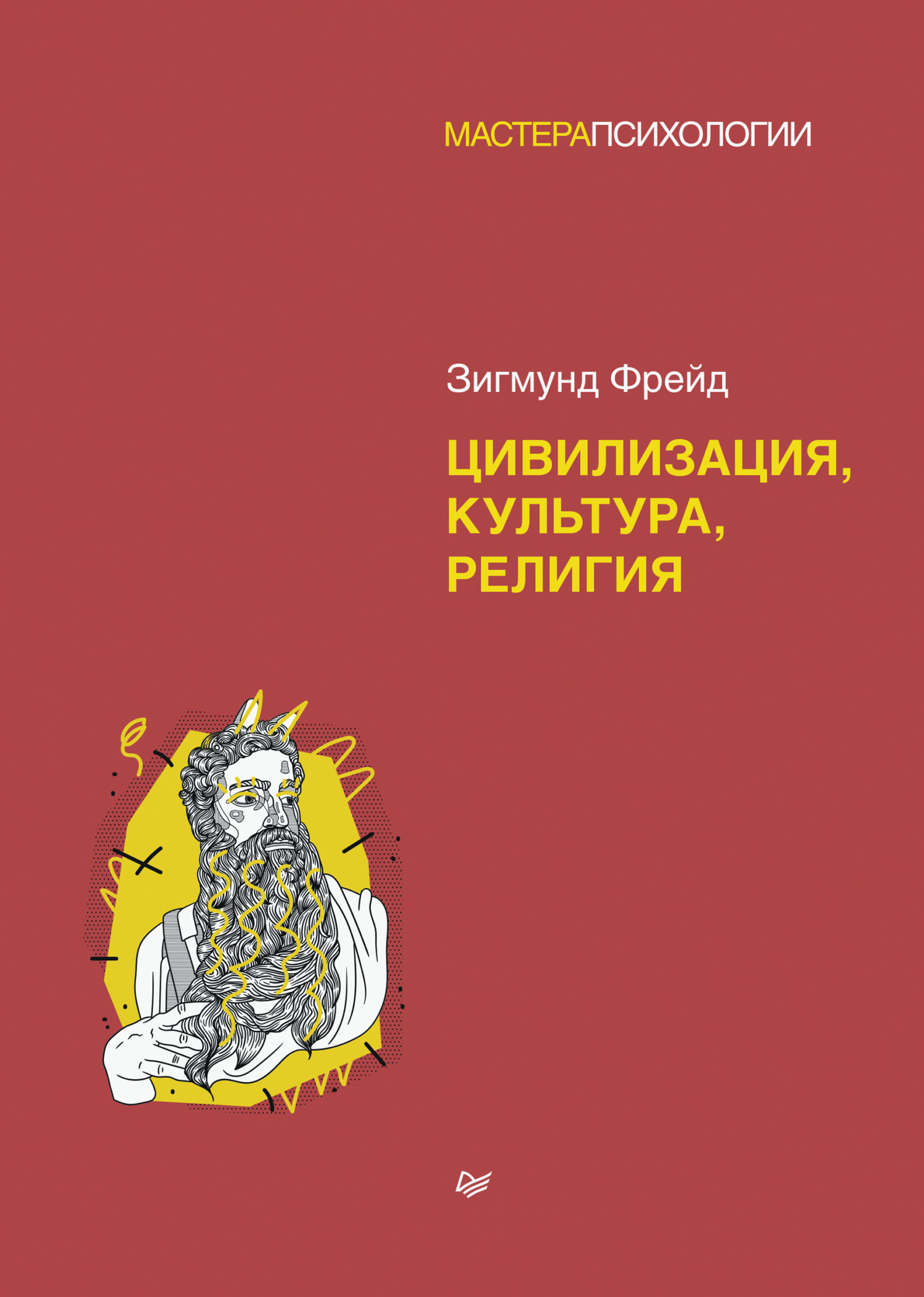Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Зигмунд Фрейд. Доктор медицины, философ, ученый, создавший теорию психоанализа. Блистательный врач-психиатр, применивший ее на практике.В настоящий том включены знаменитый труд Зигмунда Фрейда «Тотем и табу», в котором автор сделал попытку проследить древнейшие истоки наших страхов, комплексов и морально-этических норм, статьи «Мотив выбора ларца», «Табу девственности», «Жуткое», «Сюжеты сказок в сновидениях» и другие произведения за период с 1907 по 1919 гг., большей частью посвященные религиозной тематике.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Зигмунд Фрейд»: