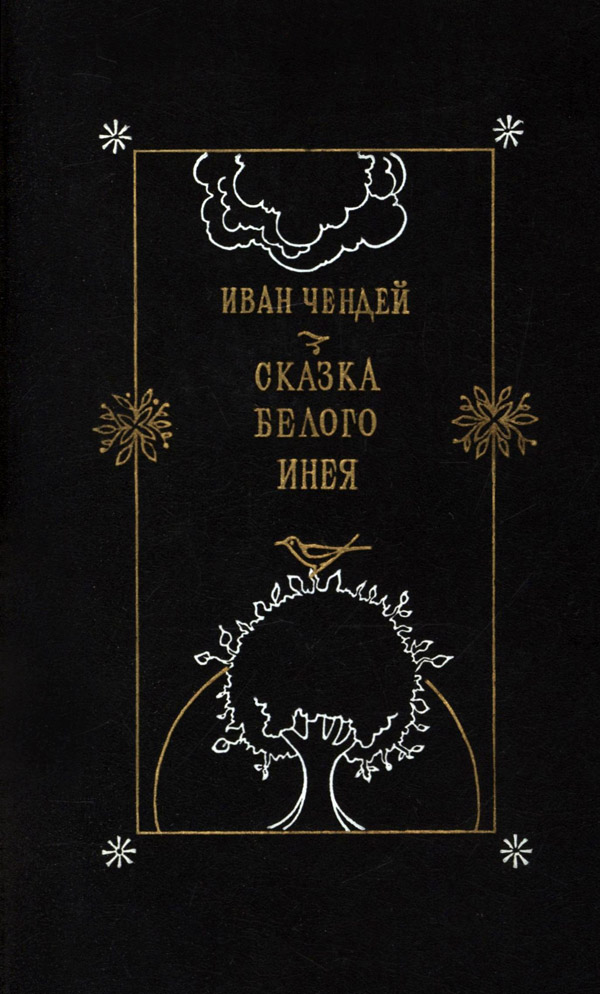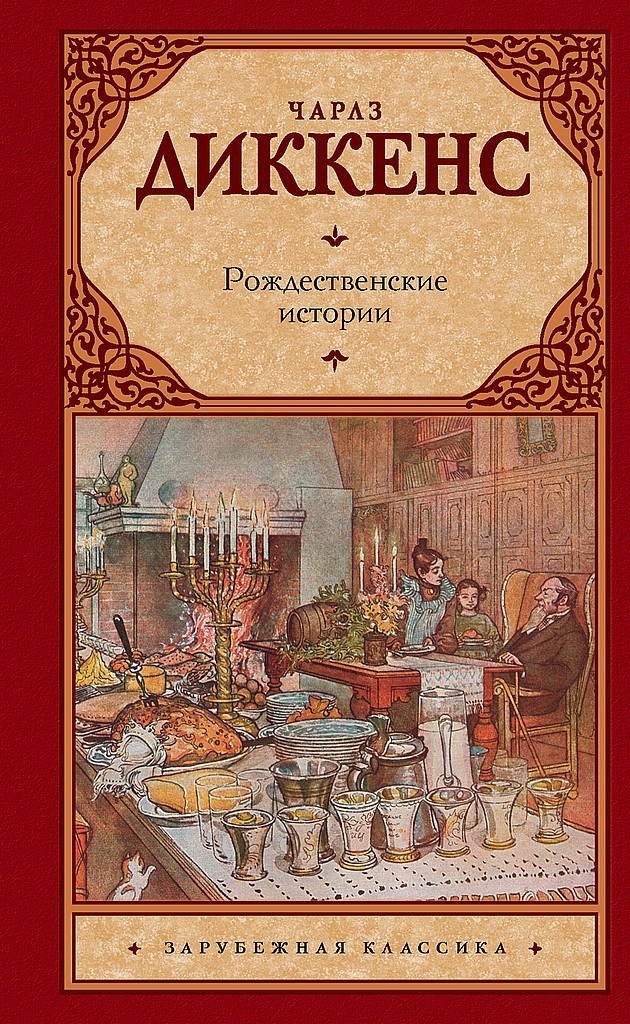Шрифт:
Закладка:
Книга “Сказка белого инея” - это сборник повестей украинского писателя Ивана Чендея, переведенных на русский язык. В этих повестях автор рассказывает о жизни и судьбах простых людей, живущих в горах Карпат, о их труде, любви, вере и надежде. Чендей показывает красоту и богатство народной культуры, традиций и обычаев, а также особенности менталитета и характера горцев. Он создает яркие и живые образы своих героев, которые несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, сохраняют человечность, достоинство и оптимизм. Стиль писателя отличается простотой, выразительностью и поэтичностью, он умело передает колорит родного края и национальный колорит. Книга “Сказка белого инея” - это увлекательное и душевное чтение для всех, кто любит реалистическую прозу и интересуется украинской литературой. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.