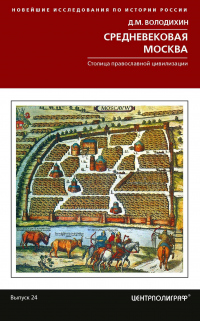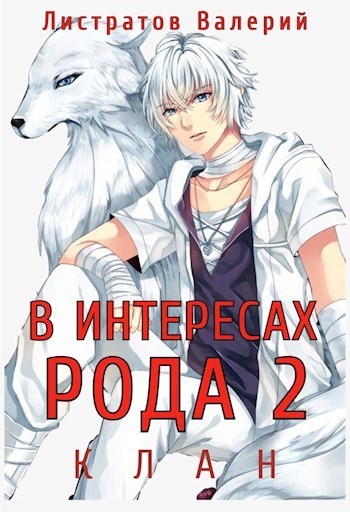Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Атмосфера становления послевоенного поколения, близкая многим читателям, когда пьянит дух молодости и свободы. Когда от «все можно» до «стой, стрелять буду» – один шаг. Криминальные романы о времени, память о котором до сих пор трепетно хранится во многих семьях. Персонажи, похожие на культовые образы фильма «Прощай, шпана замоскворецкая». Послевоенная Москва понемногу оживает. Возвращаются из эвакуации заводы, открываются магазины, шумят многолюдные рынки. На одном из них беспризорники Пельмень и Анчутка попытались расплатиться диковинной монетой, найденной на заброшенном кладбище. Разразившийся было скандал уладил случайный прохожий. Он попросил ребят помочь ему проникнуть в заброшенный склеп и откопать там старинный клад. Обрадовавшиеся беспризорники и не догадывались, на что толкает их этот подозрительный человек и чем обернется для них такая опасная затея…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Шарапов»: