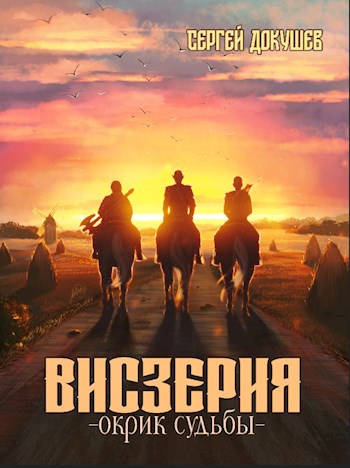Шрифт:
Закладка:
Сообщество ПТСР TEAM – это небольшая группа людей со схожими интересами, которая образовалось за пару лет до СВО на небезызвестной медийной платформе RSOTM.В него вошли бывшие и действующие военнослужащие, сотрудники силовых структур, частных военных компаний, ветераны боевых действий, ополченцы ЛДНР, гражданские, которым интересна военная тематика. Оно стало неким закрытым сообществом, объединенным общими интересами и дружбой.В мае 2022 года, уже после начала СВО, появилась и медийная составляющая. Открылся канал в Telegram и группа в VK под названиями «ПТСР TEAM».Особенностью этих ресурсов стали рассказы участников сообщества, которые не могли не тронуть сердца подписчиков.Активные участники ПТСР TEAM принимали и принимают участие в боевых действиях.Удостоены высоких государственных, ведомственных наград и наград частных добровольческих формирований.Горечь утраты товарищей так же не прошла стороной, но коллектив продолжает делать всё возможное для процветания и Победы своей Отчизны!