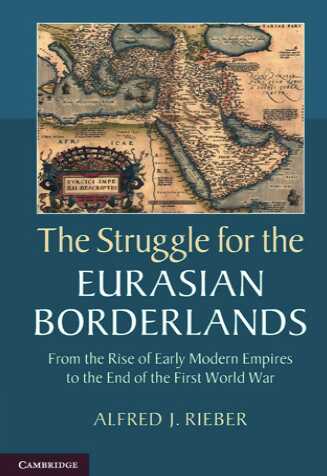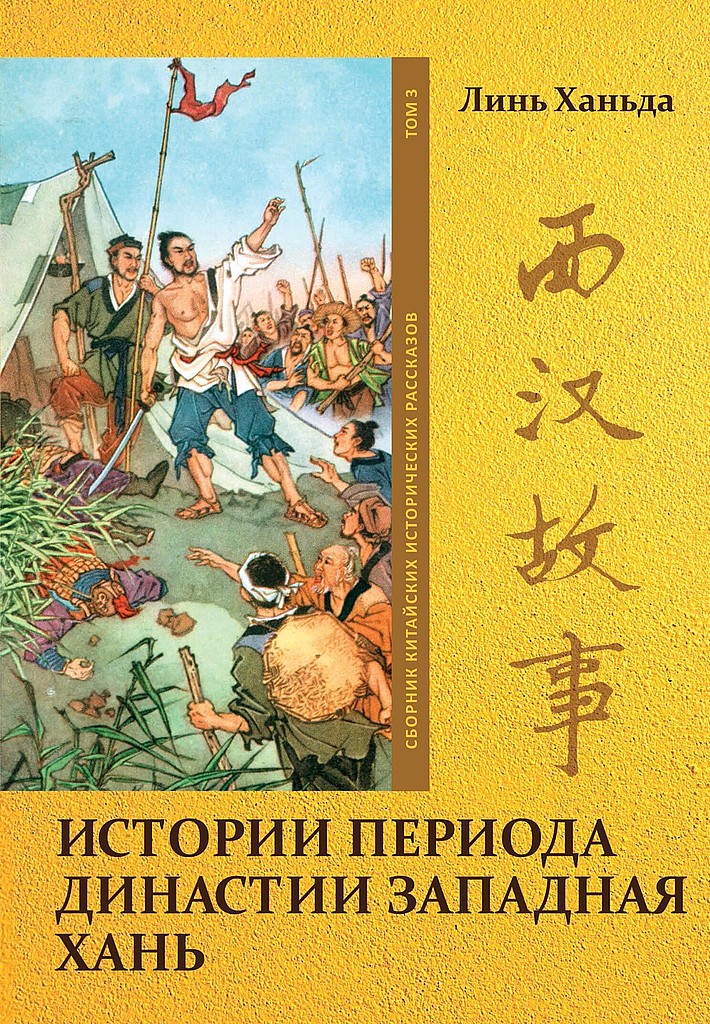Шрифт:
Закладка:
Пограничные земли возвращаются. Старые линии разлома старых империй вновь обрели политическую актуальность в мировой политике.
В амбициозной книге Альфреда Дж. Рибера рассматривается их формирование и взаимодействие с пятью имперскими центрами на протяжении пяти веков на примере Габсбургской, Османской, Российской, Иранской и Китайской империй.
Рибер рассматривает период от возникновения великих мультикультурных империй-завоевателей в конце средневекового - начале современного периода до их распада в начале XX века. Он показывает, как эти империи расширялись вдоль подвижных военных границ, конкурируя друг с другом в войне, дипломатии и культурных практиках, в то время как покоренные народы пограничных территорий стремились сохранить свою культуру и отстоять автономию. Постепенная и фрагментарная адаптация западных конституционных идей, военных реформ, культурных практик и экономического проникновения начала подрывать эти правящие идеологии и институты, что привело к краху всех пяти империй в результате революции и войны в течение чуть более десяти лет с 1911 по 1923 год.
Альфред Дж. Рибер преподает и пишет о русской и советской истории на протяжении последних пятидесяти лет. В настоящее время он является почетным профессором Центрально-Европейского университета в Будапеште.