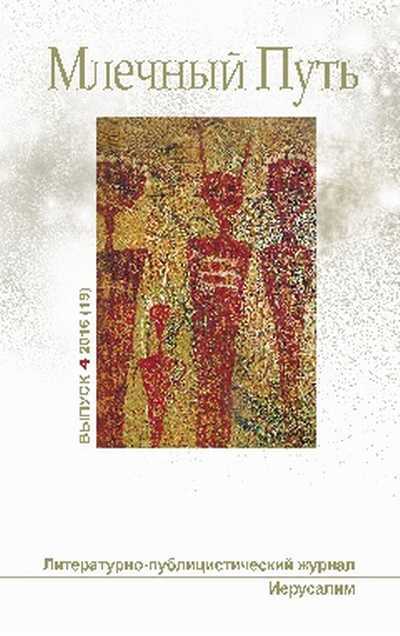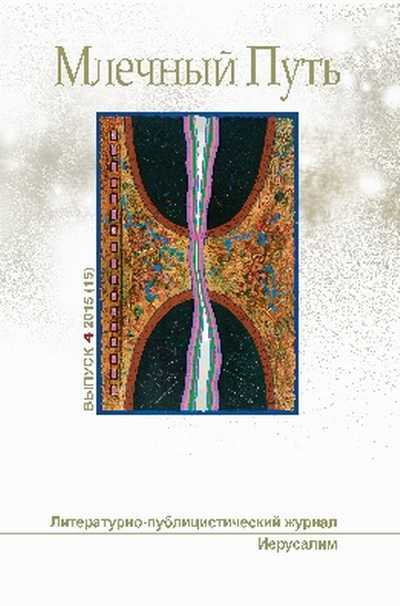Шрифт:
Закладка:
Оглавление:
Повесть Е. Кушнир «Море внутри» 4 Рассказы Ю. Нестеренко «Пацифисты» 62 Э. Вашкекич «Катушка ниток» 104 Н. Гилярова «Портниха» 118 Э. Левин «В поисках фабулы» 149 Миниатюры Л. Ашкинази «Из стены» 164 У. Лифшиц «Концерт для скрипки, насилия и велоцираптора, си минор, опус 14, а также выдержанный коньяк» 165 Переводы К.-Г. Штробль «Тайна рукописи Жоана Серрано» 168 Р. Нудельман «Станислав Лем - в письмах» 187 Наука на просторах Интернета П. Амнуэль «Новости о космосе и не только» 212 Стихи Д. Клугер 226 Г. Лайт 237 В. Заварухин 242 А. Крупинин 244 Е. Копытова 245 Л. Степанова 246 К. Смирягина 247 Т. Эш 248 Н. Прилепо 249 Сведения об авторах 250