Шрифт:
Закладка:
Повести «Жар-птица» и «Излучина», включенные в книгу Оразбека Сарсенбаева, посвящены жизни казахского аула в период социалистических преобразований в степном краю и в годы минувшей войны. В них изображены живые люди с их радостями и горестями, счастливыми и нелегкими судьбами. Искренне верит в существование птицы счастья кетменщик Бекбаул, герой повести «Жар-птица», через трудные испытания и ошибки приходит он к пониманию настоящего счастья, которое можно добыть только честным трудом. Не ищет ничьей жалости и прощения Агабек, который умирает, так и не поняв, зачем он жил и чего достиг, страдает нежная Жанель, так и не нашедшая любви и понимания, — герои повести «Излучина». Интересны и рассказы, вошедшие в сборник. Лиричные и увлекательные, гневные и жизнеутверждающие, они привлекают своеобразностью решения основных проблемных вопросов, стоящих перед людьми и обществом.
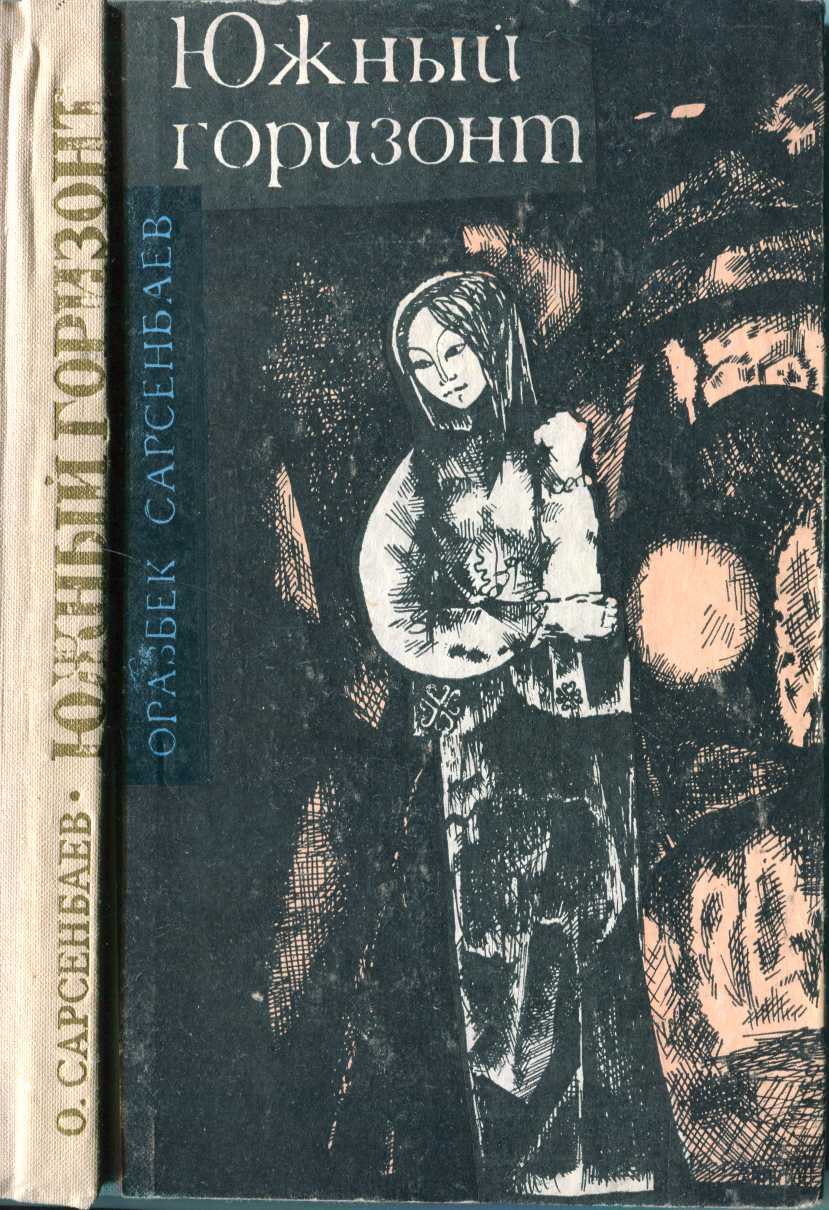
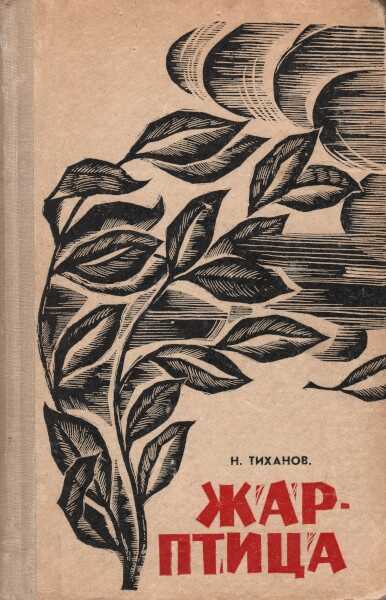

![Птица-Жар [СИ] - Мария Абаршалина](/uploads/posts/books/13605/13605.jpg)

