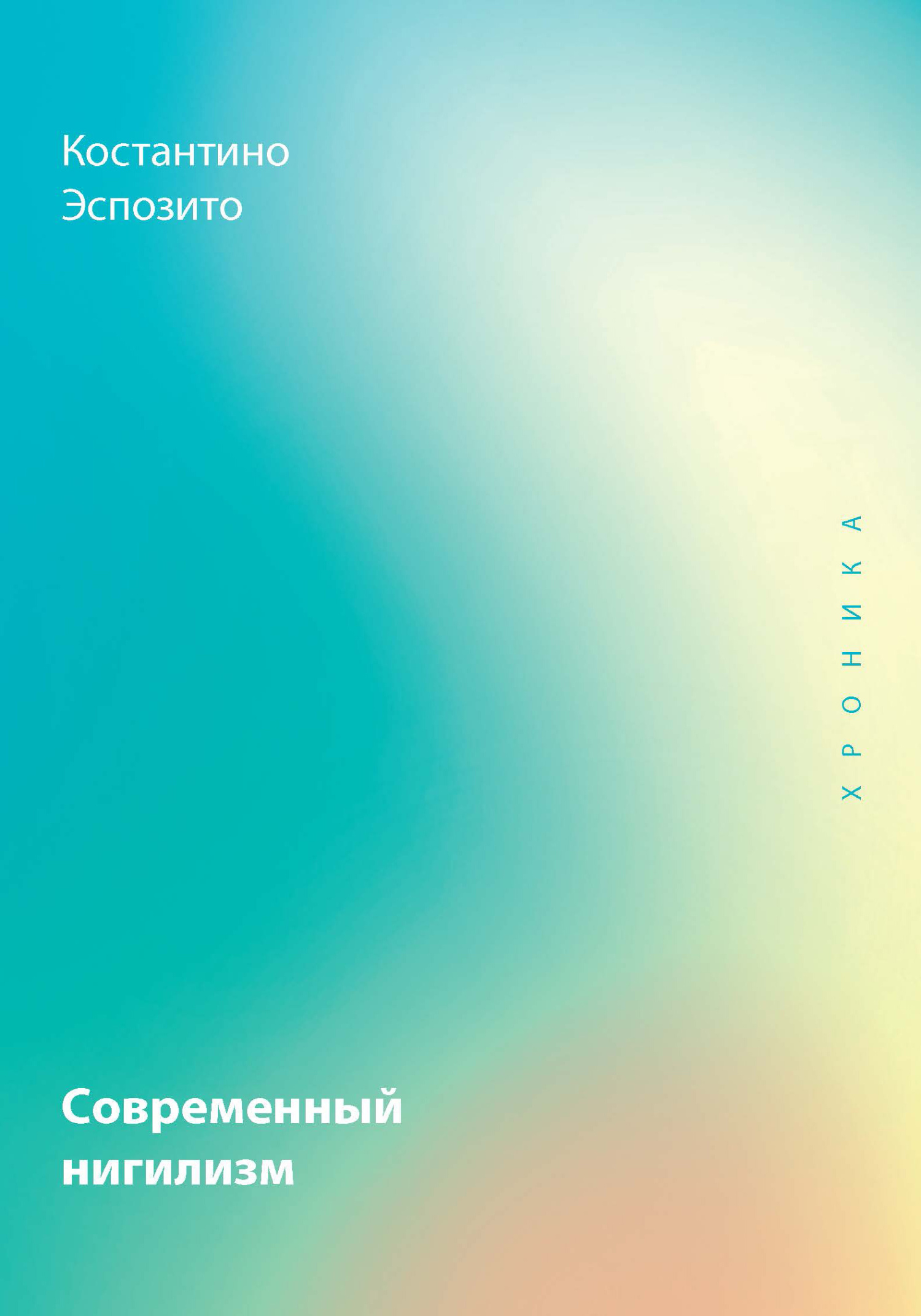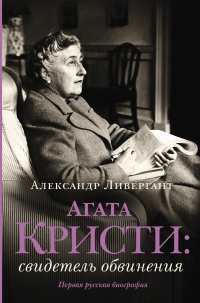Шрифт:
Закладка:
Современный нигилизм – это и открытый вопрос, и новая повседневность, и продукт общества потребления. Как форма мышления, в прошлом революционная и смелая, привела нас к молчаливой константе «нет ценностей и нет идеалов»? Отрицать и ничего не искать – сейчас, в сложнейших реалиях, – тупик или освобождение? Костантино Эспозито, итальянский академик и преподаватель философии в Университете Бари, ведет хронику этого явления и показывает, как нигилизм высвечивается в элементах современной культуры. Это и разговоры со студентами, и размышления над текстами Уоллеса, Маккарти, Уэльбека, Рота, Хайдеггера и Ницше, картинами Альберта Бурри и Лучо Фонтана, даже сериалом «Настоящий детектив» и мультфильмом «Головоломка». Автор подарил читателям в это тревожное время терапевтический и воодушевляющий текст, который мерцает во тьме.