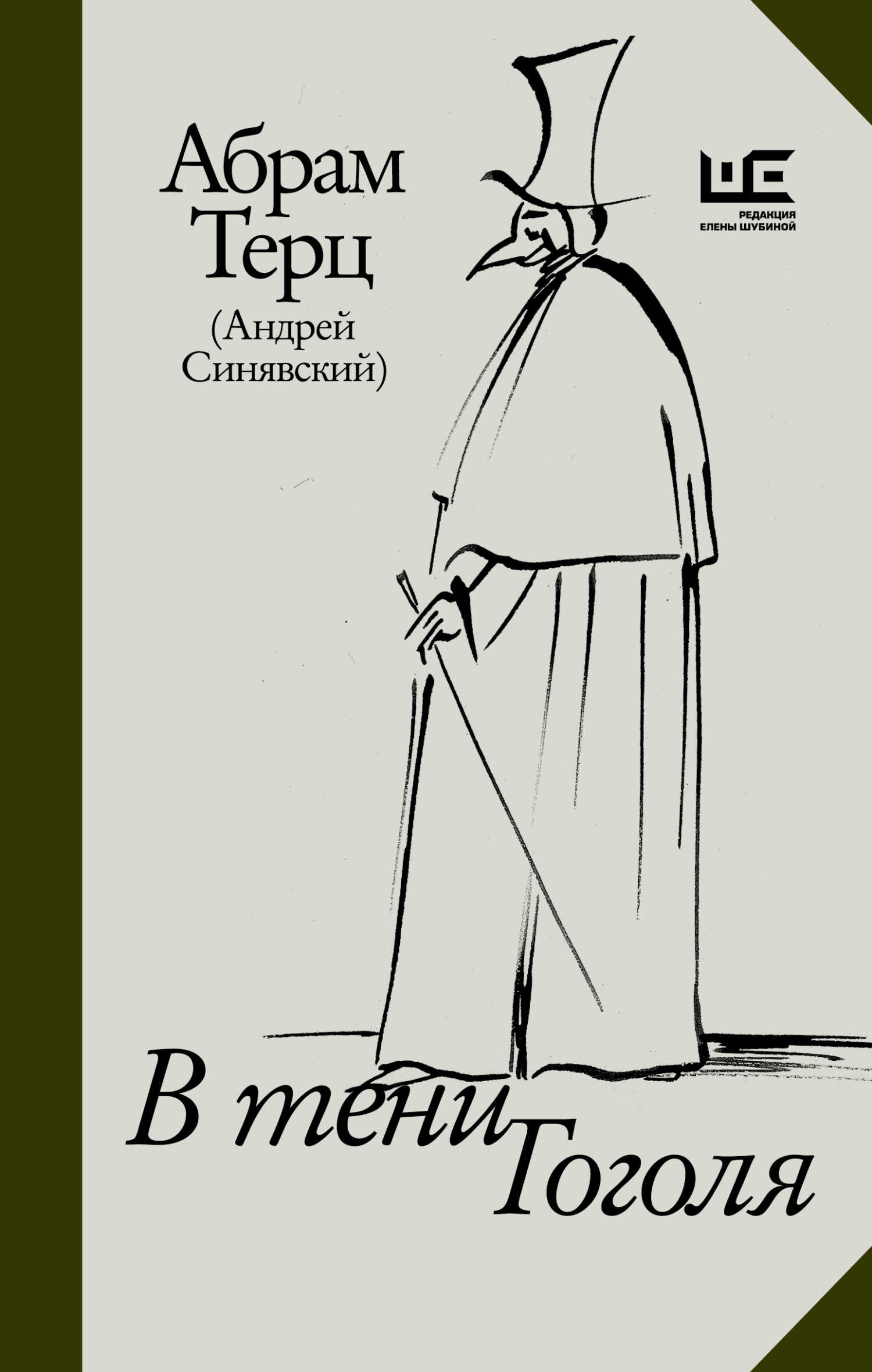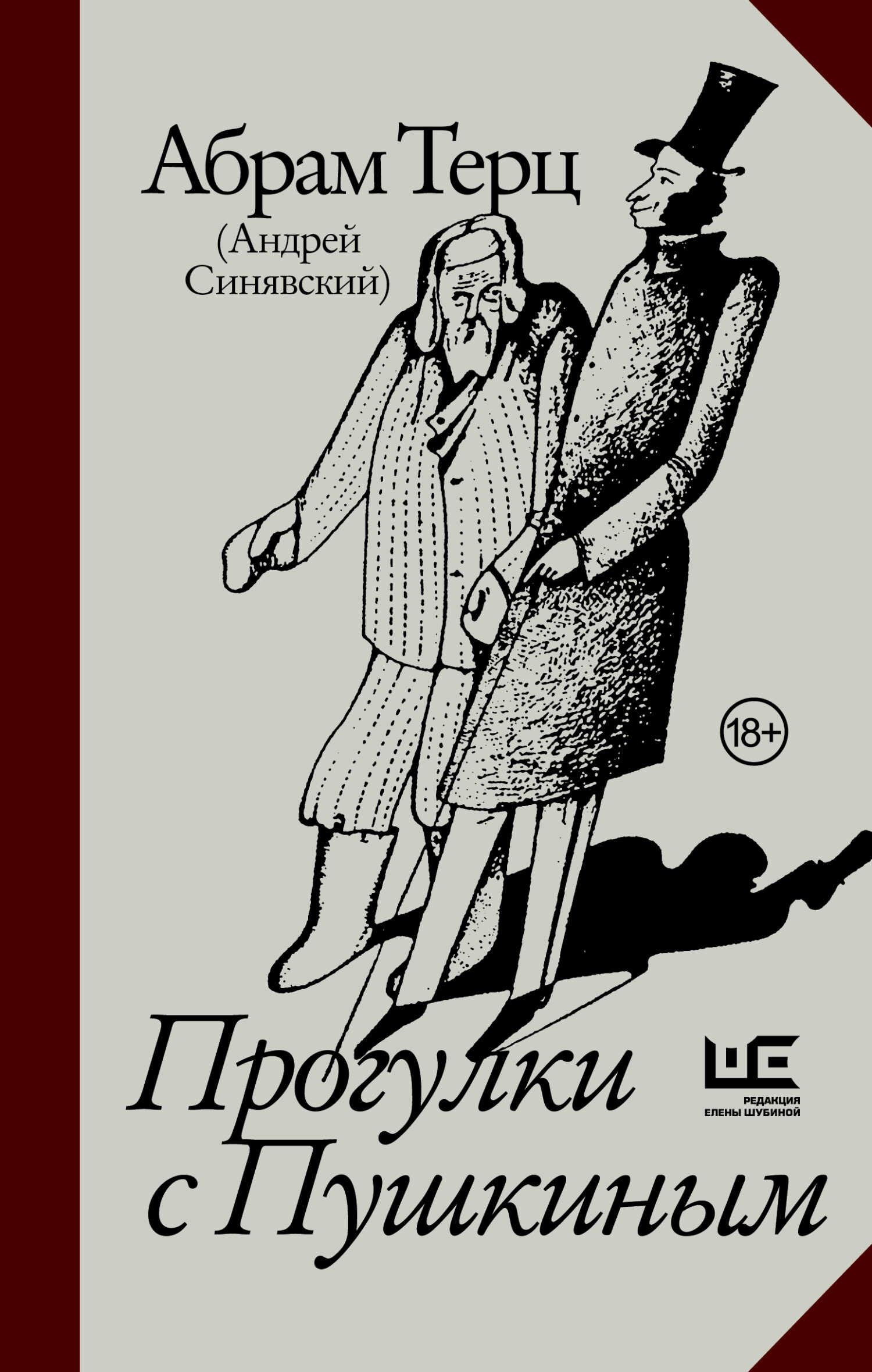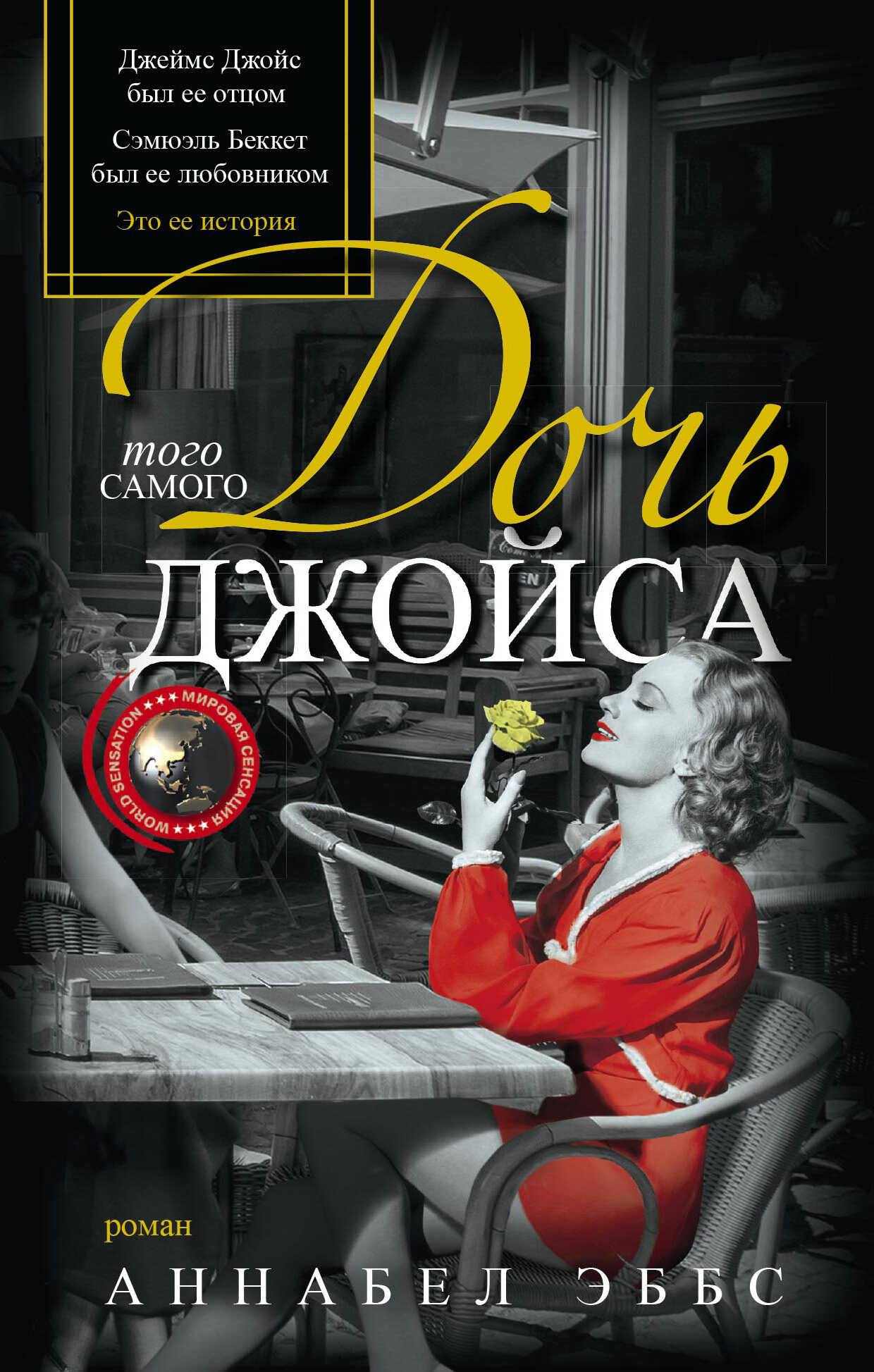Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
“Прогулки с Пушкиным” – самая известная, вызвавшая наибольшее количество споров книга Абрама Терца (псевдоним Андрея Синявского (1925-1997)), которую он написал во время заключения в Дубровлаге. В книгу также вошли эссе “Путешествие на Черную речку” и письмо-ответ А. И. Солженицыну “Чтение в сердцах”, опубликованные в литературном журнале “Синтаксис”. Предисловие Александра Гениса.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Донатович Синявский»: