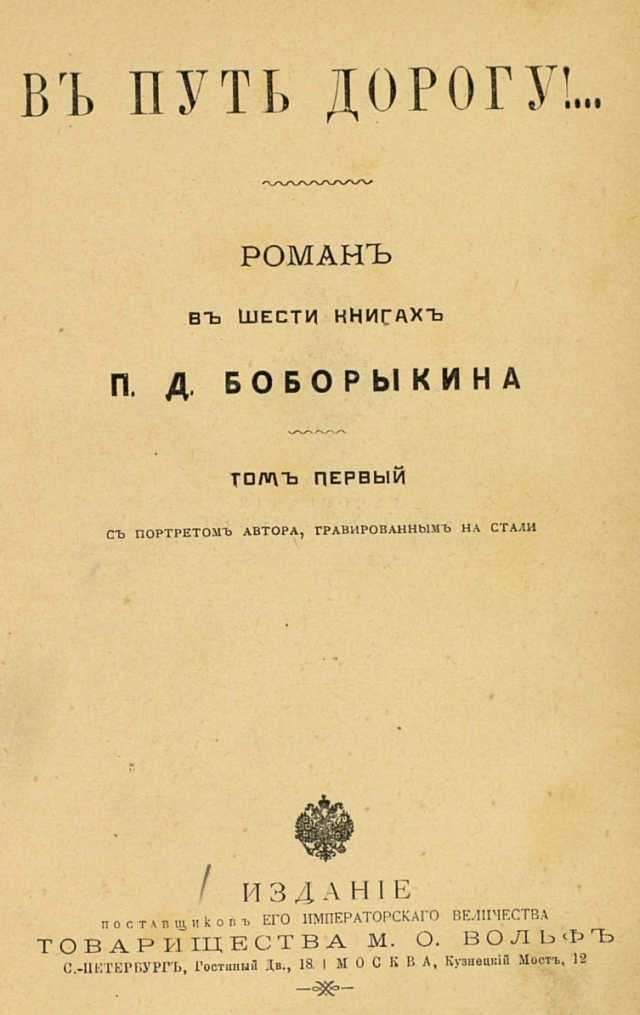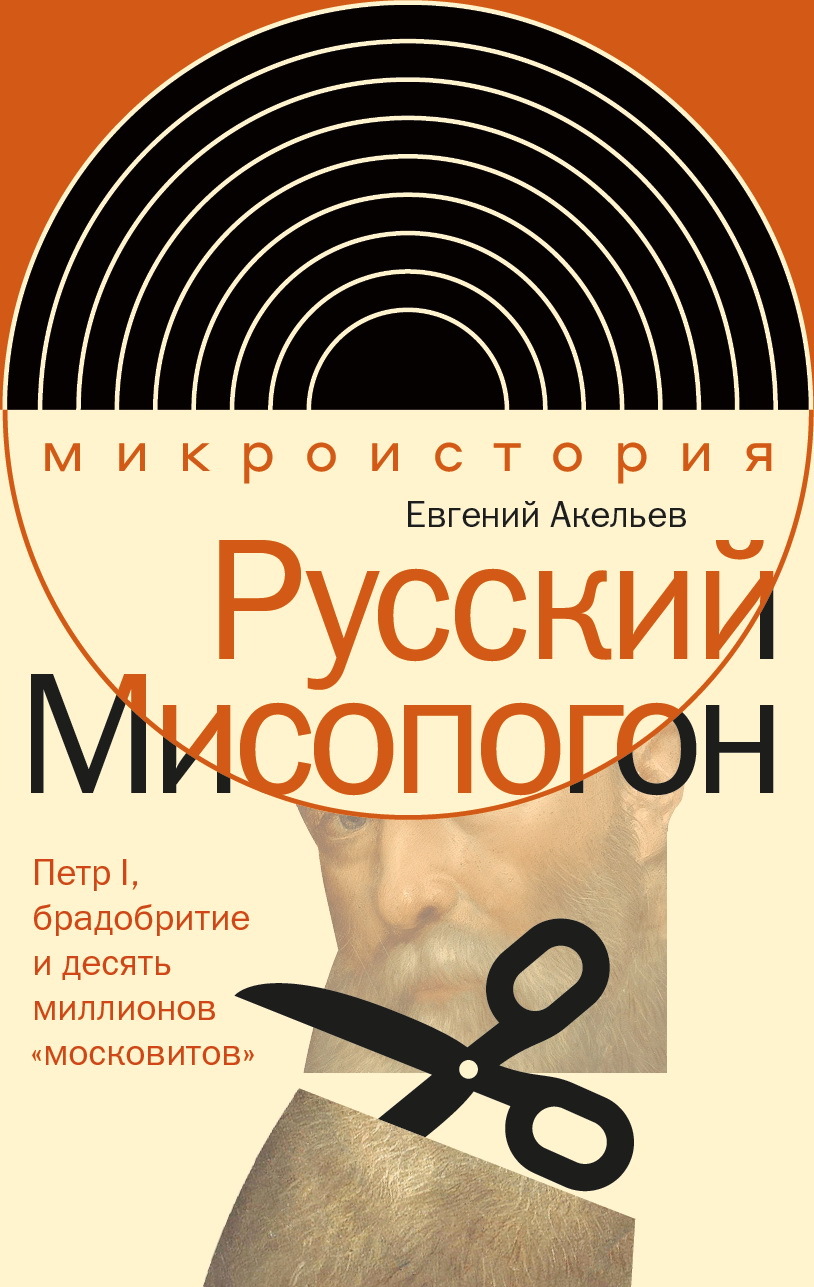Шрифт:
Закладка:
— Дѣло, мамочка, дѣло! — закричалъ Горшковъ, — ручку пожалуйте, за китайскій чай. Ну, надулись, и довольно, пора собираться.
— Анфиса! — крикнула Анна Ивановна: — убирай-ка самоваръ.
Борисъ поблагодарилъ хозяйку и всталъ.
Явилась высокая Анфиса съ услужливымъ видомъ и унесла самоваръ.
Горшковъ подошелъ къ фортепіано, открылъ его и сѣль на низенькій, старинный табуретъ.
— Ты намъ ноктюрнъ сыграешь? — спросилъ его Борисъ.
— Нѣтъ, идейку, какъ онъ называетъ, — замѣтила смѣясь Анна Ивановна.
— Мамашенька, не задѣвайте меня, — отозвался Горшковъ и, встряхнувъ вихромъ своимъ, заигралъ.
Борисъ стоялъ около фортепіано въ темномъ углу. Анна Ивановна опустилась на стулъ, поодаль, въ выжидающей и кроткой позѣ. Она не смотрѣла на сына съ умиленіемъ; она даже вовсѳ не смотрѣла на него; но на лицѣ ея была славная, умная и вмѣстѣ съ тѣмъ, материнская улыбка. Она знала, что ея Валерьянъ, дѣйствительно, играетъ хорошую вещь; и ей вдвое было пріятнѣе оттого, что, не восхищаясь имъ громко, она внутренно сознавала глубину и силу его таланта. Ея лицо какъ-будто говорило: «ахъ, ты, Валерьяша, мальчикъ ты ощо, школьникъ, а въ какой въ тебѣ Божій даръ».
Борисъ задумался. Онъ ни о чемъ опредѣленно не думалъ; но звуки, выходившіе изъ-подъ пальцевъ Горшкова, освѣжали его и въ то же время затягивали въ даль, рождали въ немъ чувство силы и порыванія куда-то, гдѣ навѣрно будетъ лучше. Точно этотъ ноктюрнъ нарочно раздался на рубежѣ двухъ эпохъ, точно вмѣстѣ съ нимъ отходила назадъ скорбная, назойливая жизнь. Горшковъ игралъ, покачиваясь вправо и влѣво… Густая, страстная и свѣжая мелодія рвалась и какъ бы не находила себѣ довольно мѣста на фортепіанныхъ клавишахъ… Имѣлъ ли Горшковъ передъ собой образъ Нади… или это былъ гимнъ молодости, силы, вдохновенія… но звуки лились могучимъ каскадомъ… и подъ конецъ безъ треска и банальныхъ нотъ мелодія не изсякла; но перешла въ тихую не то молитву, не то заунывную пѣснь… но только на одно мгновение… Это мгновеніе разрѣшилось глубокими аккордами…
— Прекрасно! — вырвалось у Бориса, когда Горшковъ остановился. У него были слезы на глазахъ.
Анна Ивановна приподнялась и тихо проговорила: — Хорошо.
Горшковъ вскочилъ.
— Да, хорошо, знаю, что хорошо.
Онъ бросился къ матери, сталъ передъ ней наколѣни и расцѣловалъ ея руки.
— Это вы, мамочка, меня научили — говорилъ онъ пискливо: — вы меня къ клавикордамъ сажали, пальчики мои ломали… свои талантъ мнѣ подарили…
Анна Ивановна смѣялась хорошимъ, умнымъ смѣхомъ, показывая Борису глазами на сына.
— Ну, — вскричалъ Горшковъ вскакивая: — въ чувствительность не впадать… Фамильная сцена вышла первый сортъ! Едемъ, Боря, къ предмету моей страсти, какъ увѣряетъ мамашенька.
— Долго ли тамъ пробудешь, Валерьянъ? — спросила Анна Ивановна.
— Нѣтъ, мамочка, часовъ до десяти, не больше.
Борисъ простился съ Анной Ивановной и поцѣловалъ у ней руку.
— Не забывайте насъ, Борисъ Николаичъ, — промолвила она. — Часто-то вамъ нельзя, я знаю; батюшка вашъ все плохъ; а вы хоть разокъ въ мѣсяцъ къ намъ заверните вечеркомъ.
— Непремѣнно, Анна Ивановна, какъ только можно будетъ.
Горшковъ тѣмъ временемъ сбѣгалъ въ свою каморку и преобразился изъ сѣренькой затрапезной визитки въ новый сюртукъ.
— Ну, мамашенька, — заговорилъ онъ — смотрите, хорошъ я? Можно въ меня влюбиться, или нельзя?
— Хорошъ, хорошъ!.. Вотъ еще я вамъ забыла сказать, Борисъ Николаичъ: онъ у меня въ франтовство пустился, вѣдь, должно быть, не спроста?..
— Конечно, Анна Ивановна, ужъ это самый дурной признакъ.
— Самый дурной признакъ! Ахъ, ты, мудрецъ! А я вотъ васъ, мамочка, прошу третій мѣсяцъ, чтобъ вы мнѣ галстухъ съ цвѣтными концами купили, такъ вы мнѣ и этого удовольствія не хотите доставить.
— Съ цвѣтными концами, Валерьянъ, — вскричалъ Борисъ. — Что ты, постыдись!
— А какъ же, братъ; это что ни на есть самый шикъ. Мамашенька, купите?
— Куплю, куплю, — отозвалась смѣясь Анна Ивановна, — Анфиса, подай-ка имъ шинель, — прибавила она.
Анфиса надѣла шинели обоимъ друзьямъ и посвѣтила имъ въ сѣни.
— Прощайте, Борисъ Николаичъ. Такъ я тебя буду ждать, Валерьяша, — крикнула Анна Ивановна.
— Ждите, мамочка, — отвѣчалъ изъ сѣней Горшковъ.
Они вышли на тротуаръ. Свѣтилъ мѣсяцъ; мокрая мостовая во многихъ мѣстахъ блестѣла. Ѳеофанъ прикурнулъ на козлахъ. Борисъ разбудилъ его и, садясь съ Горшковымъ на дрожки, велѣлъ ѣхать къ Телянинымъ. Ѳеофанъ, проѣхавъ Варваркой, повернулъ направо въ улицу, которая шла въ гору. Ночь была яркая, теплая и влажная. Стояли послѣдніе, чисто-осенніе дни передъ сухими, жесткими морозами.
— А мать-то у тебя славная, — промолвилъ Борисъ, обратившись лицомъ къ Горшкову.
— Да, братъ, Боря; хорошій человѣкъ у меня мать; къ Гюнтену пристрастіе имѣетъ, а вообще, я тебѣ скажу, поумнѣе да подобрѣе нашихъ благотворительныхъ-то барынь, что театры-то въ пользу бѣдныхъ устраиваютъ.
— И съ ней какъ-то весело, — отозвался Борисъ.
— Оттого, что у ней царь въ головѣ есть… вѣдь она всегда говоритъ, что у ней душа молода; мнѣ, говорить, шестнадцать лѣтъ, а не сорокъ пять Ну, а скажика-ка ты мнѣ, Боря, какъ у тебя дѣла-то?.. что, отецъ покончилъ съ завѣщаніемъ?
— Да, теперь все ужъ сдѣлано, — отвѣтилъ Борисъ, какъ бы нехотя: ему не хотѣлось говорить про домашнія дѣла при кучерѣ.
Горшковъ это понялъ и позволилъ себѣ еще одинъ вопросъ:
— Ну, а бабушка-то присмирѣла?
— Присмирѣла, — отвѣтилъ Борисъ.
Прошло нѣсколько минутъ молчанія.
— А что, Валерьянъ, — началъ Борисъ, — тебѣ въ самомъ дѣлѣ Надя-то нравится?
— Лутикъ, братъ, восхитительный. Вѣдь ты, Боря, подло поступаешь.
— А что?
— Да какъ что? Небойсь, прежде ты съ ней дуэты изъ Страньеры разыгрывалъ, а теперь совсѣмъ бросилъ… этакъ, братъ, негодится поступать! Я очень радъ, что ты бросилъ, а все-таки это скверно!
— Да что же, я влюбленъ, что ли, былъ?
— Ты ужь, пожалуйста, не виляй… Ручки у ней цѣловалъ, въ горѣлки игралъ, локснчиками все восхищался… это все еще не больно давно было, въ пятомъ классѣ.
— Она славная дѣвочка… я бы и теперь у нихъ бывалъ, да когда же?..
— И не ѣзди, я очень радъ! А то маменькой займись; она любитъ красивыхъ юношей.
Ѳеофанъ въѣхалъ въ ворота длиннаго, одноэтажнаго дома.
— Ну, пріѣхали! — крикнулъ Горшковъ. — Ты отпустишь кучера, Боря?
— Отпущу, пріѣзжай за мной часа черезъ два, — приказалъ Борисъ Ѳеофану.
Они вошли въ сѣни, освѣщенныя лампой, и Горшковъ позвонилъ.
Дверь отперъ мальчикъ, одѣтый въ сѣрый ливрейный
фракъ съ свѣтлыми пуговицами, въ желтый жилетъ я сѣрые штиблеты.
— Здравствуй, Вася, — сказалъ ему Горшковъ: — нѣмецъ ужъ здѣсь, — прибавилъ онъ, увидавъ въ передней футляръ отъ віолончели.
— Какъ-же-съ, давно готовы-съ, — отвѣчалъ улыбаясь Вася.
Зала, куда вошли друзья, была освѣщена лампой, стоявшей въ углу, на высокомъ штативѣ. Дикенькіе обои смотрѣли довольно скромно. На окнахъ висѣли короткія драпировки съ кистями. Піанино у лѣвой стѣны, съ двумя этажерками,