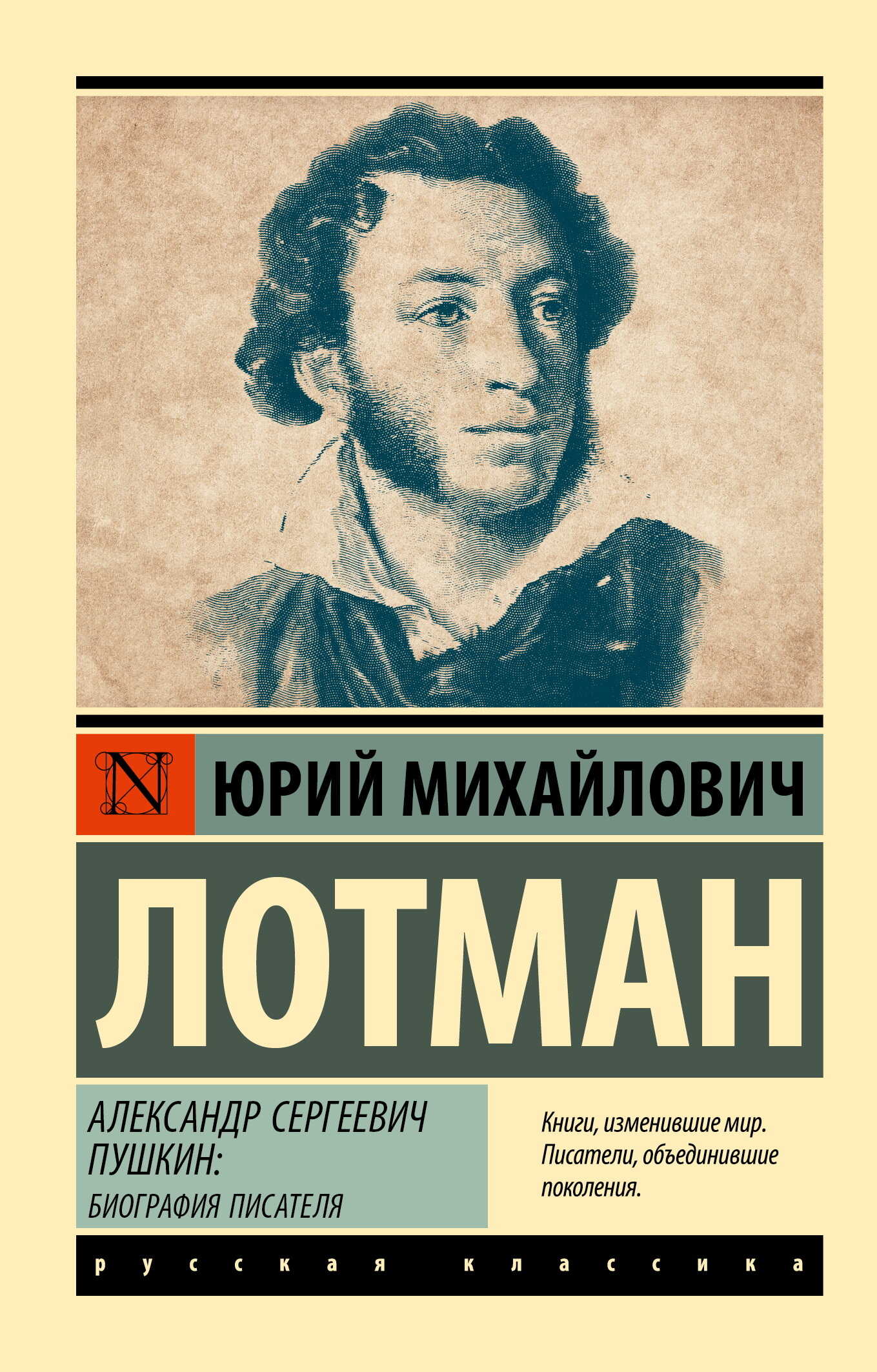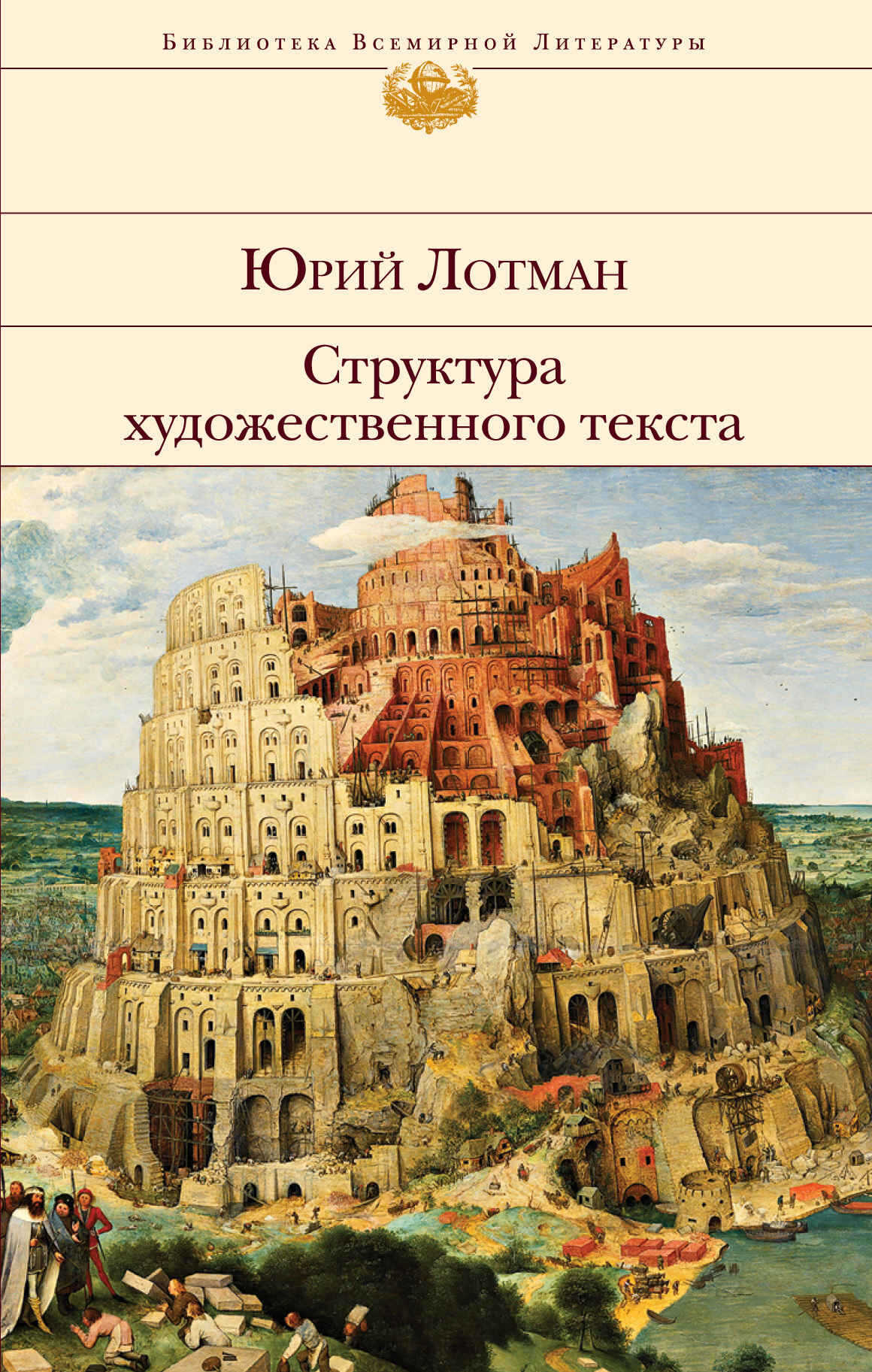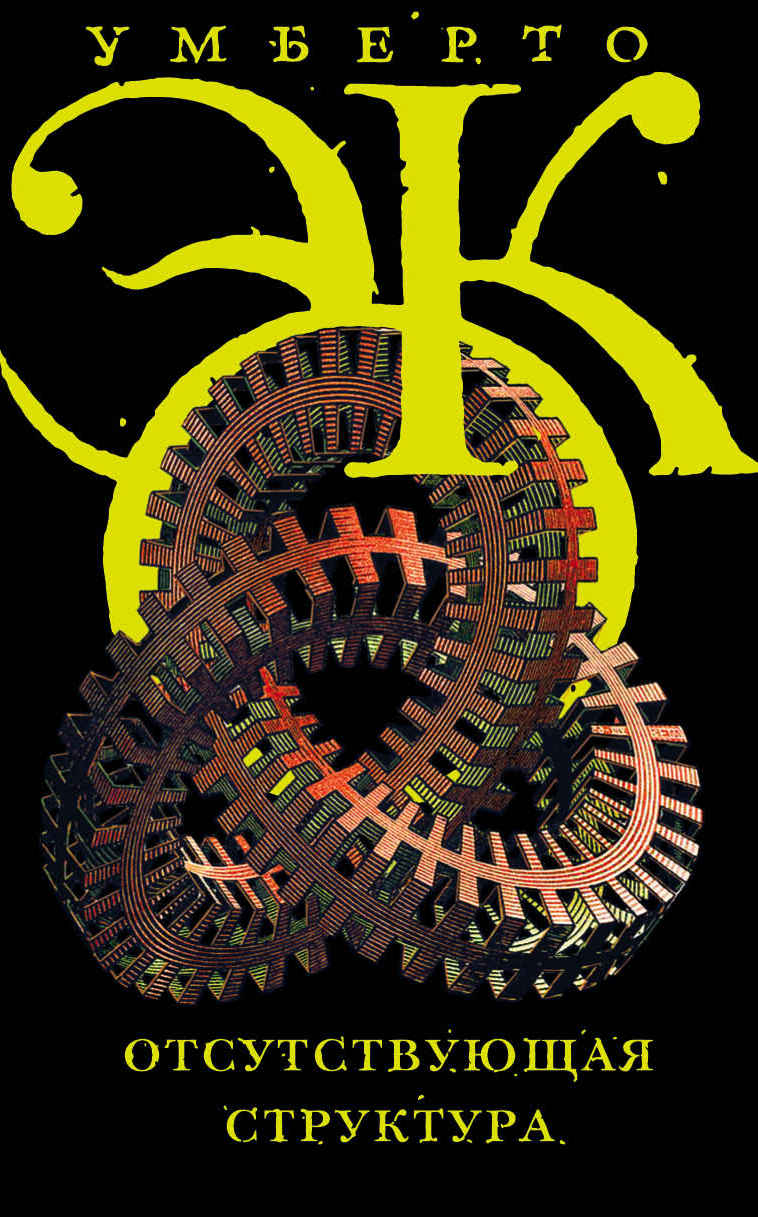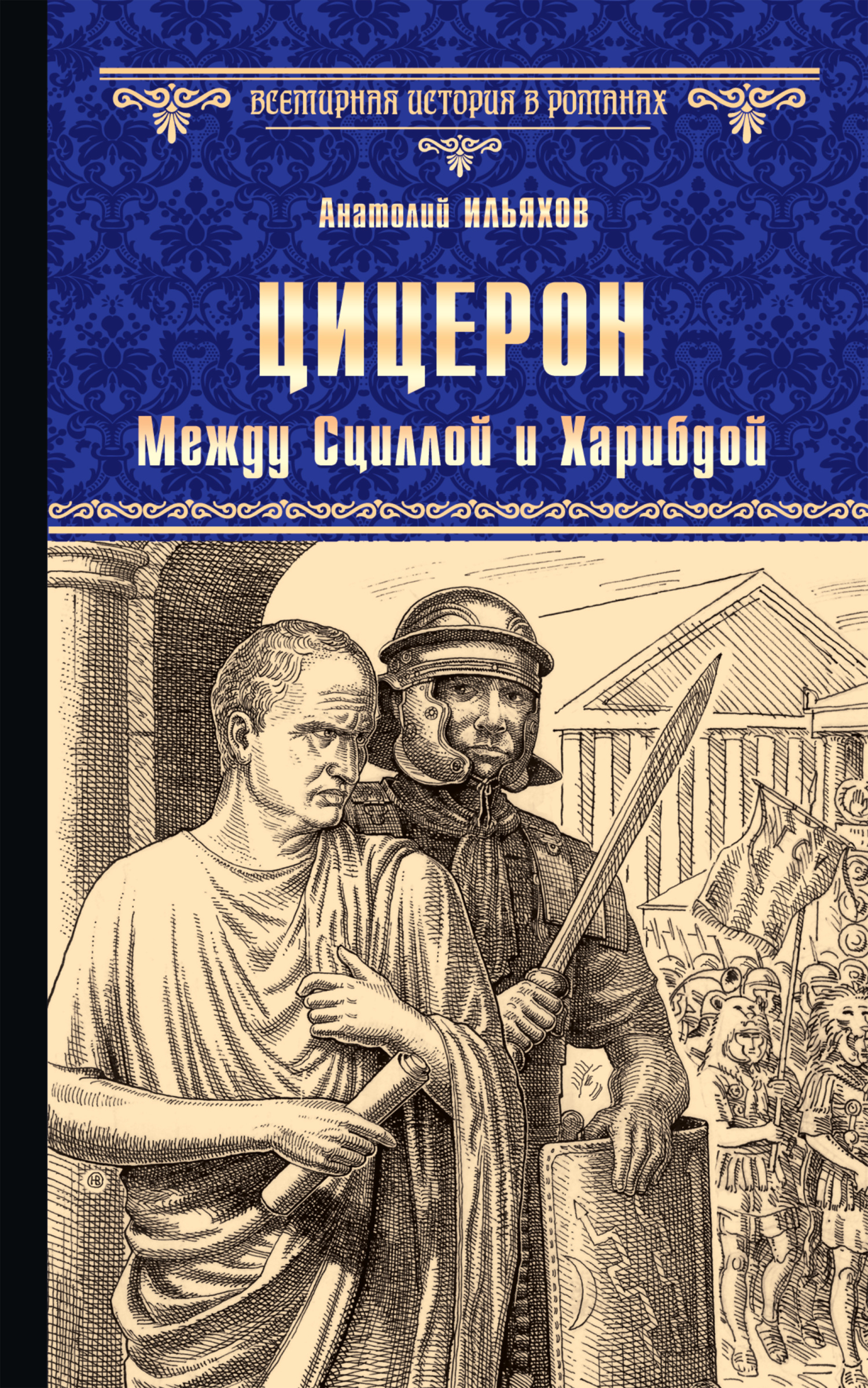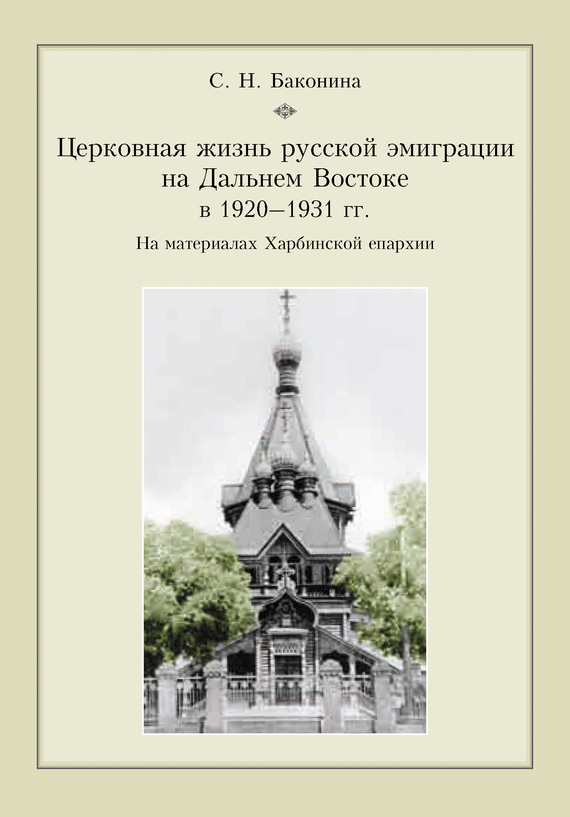Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Юрий Михайлович Лотман (1922-1993) – выдающийся советский литературовед и культуролог, один из основоположников Тартуско-московской семиотической школы. В своем масштабном исследовании «Структура художественного текста» он рассматривает искусство через призму знаковых систем, а понятие «текста» раскладывает на мельчайшие составляющие. Под самое пристальное изучение Лотмана попадают образные значения символов и знаков, правила кодировки и композиции, а также проблематика персонажей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Михайлович Лотман»: