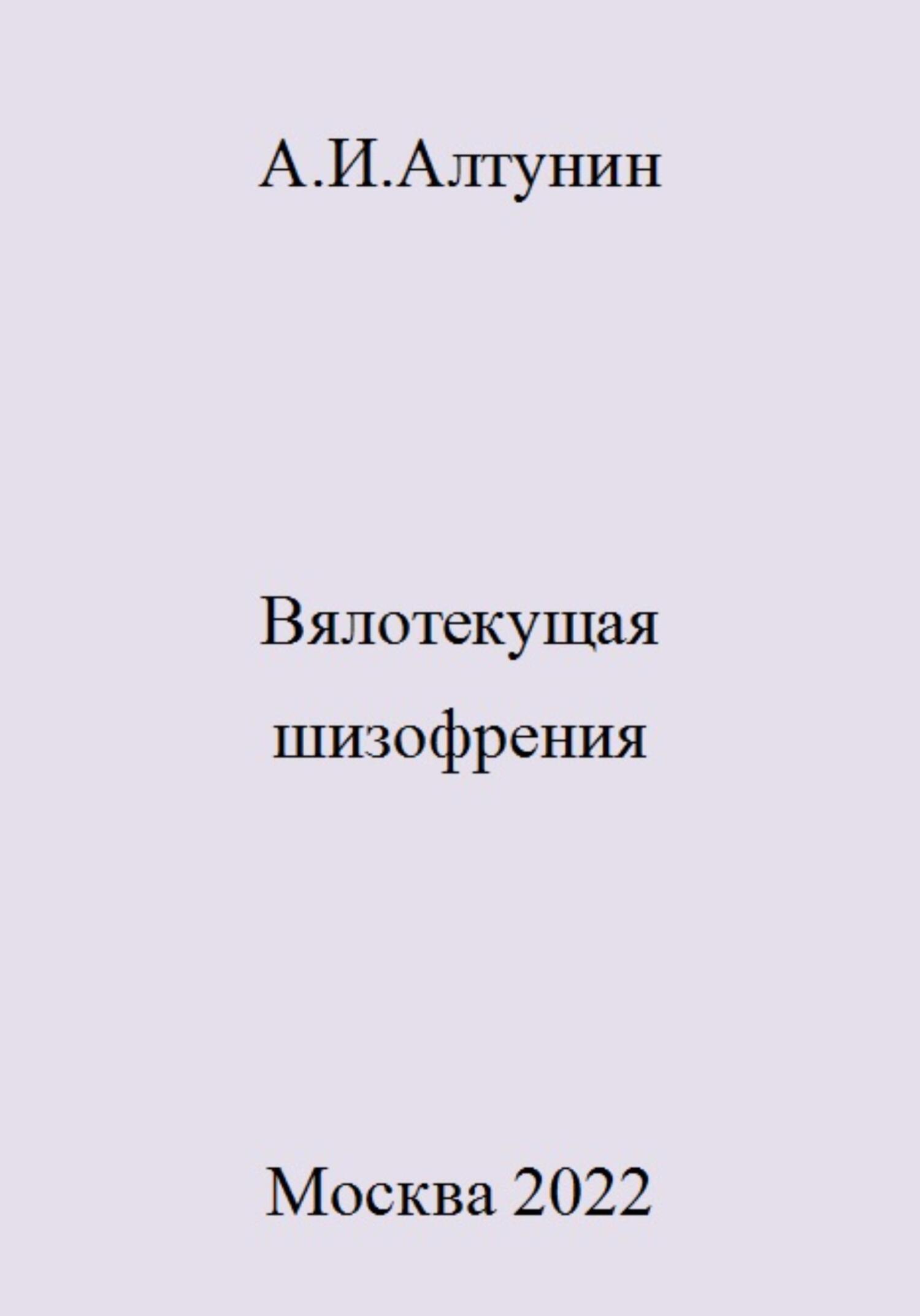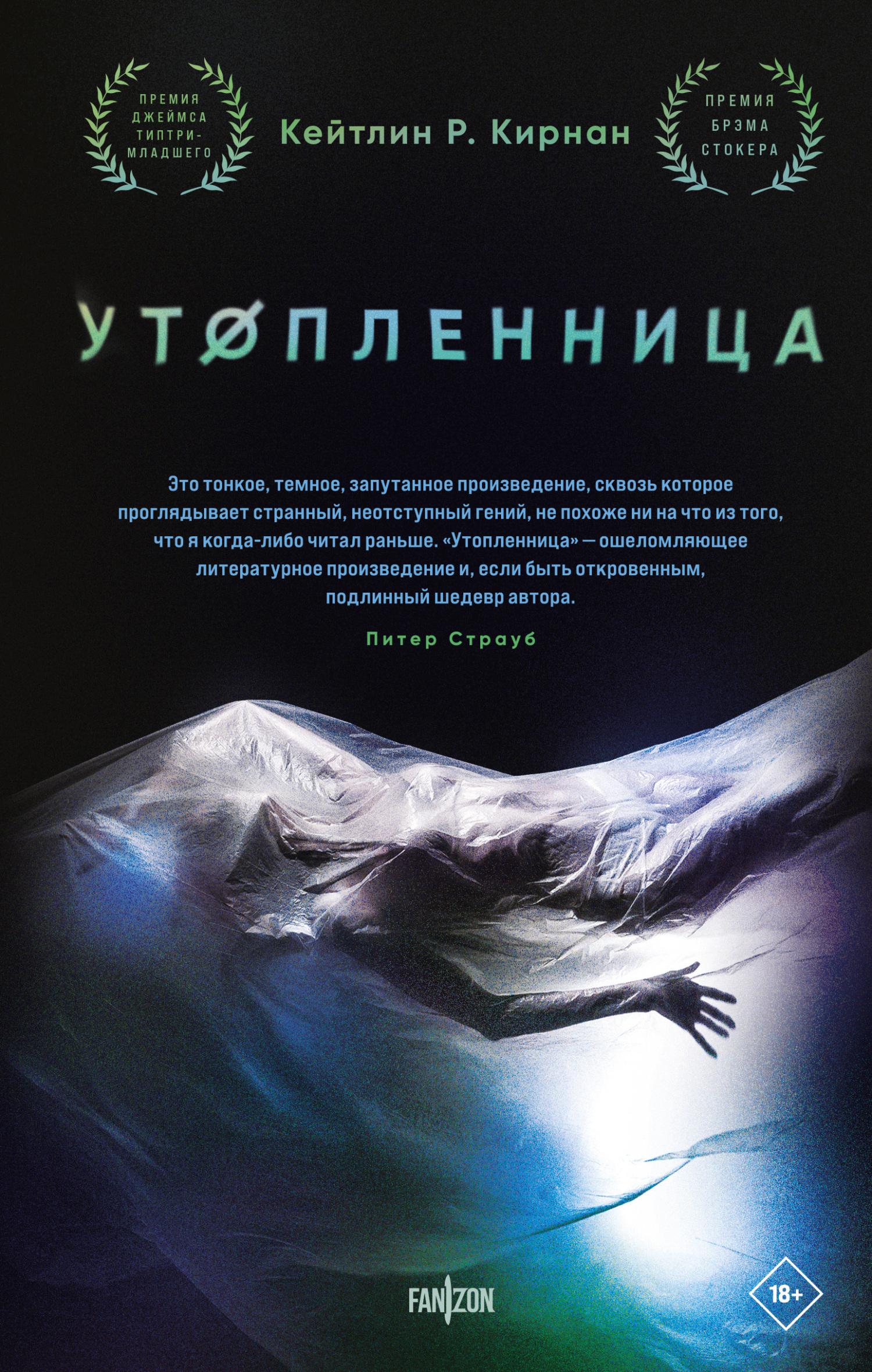Шрифт:
Закладка:
Книга американки китайского происхождения Эсме Вэйцзюнь Ван развеивает многочисленные мифы о шизофрении. На личном опыте писательница рассказывает о гранях психического расстройства, противоречивых диагнозах, вариантах терапии и судьбах людей, ставших жертвами душевной болезни. Обладательница неутешительного диагноза, Эсме Вэйцзюнь Ван способна смотреть на свои проблемы со стороны. Это дает ей возможность быть беспристрастным исследователем собственного недуга, а в обычной жизни делает ее высокофункциональной и эмпатичной. Драматичный опыт писательницы – положительный пример того, каких высот личного и социального развития может достичь человек с психическим расстройством при развитом интеллекте, рефлексии и самодисциплине.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.