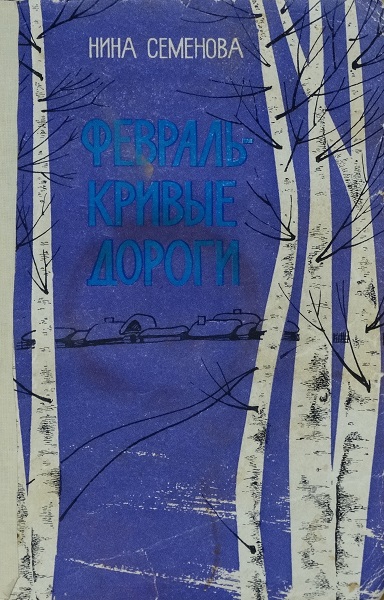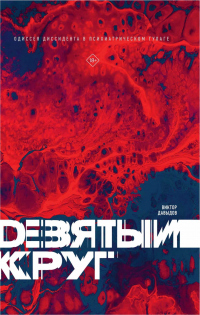Шрифт:
Закладка:
Тихая, задумчивая Смоленщина — родина и постоянный, неизменный источник творчества Н. Семеновой. В 1959 году Смоленское книжное издательство выпустило в свет первую книгу Семеновой — «Ленкина березка». В 1966 году в издательстве «Московский рабочий» вышла вторая книга рассказов — «Мояника». Вот что писал об этой книге выдающийся советский поэт Николай Рыленков: «В рассказах молодой смоленской писательницы Нины Семеновой всегда есть что-то от доброй сказки, xoтя они вовсе не отличаются богатством вымысла. Сказочна в них та неуловимая с первого взгляда, но явно ощутимая поэтическая особинка, которую у нас в народе называют удивительным словом «нешточко». В новом сборнике рассказов и повестей Н. Семенова продолжает ту же тему — поисков чудесного в обыкновенном. Писательнице по душе современная деревня, ее трудолюбивые жители, неброская застенчивая красота родного края.