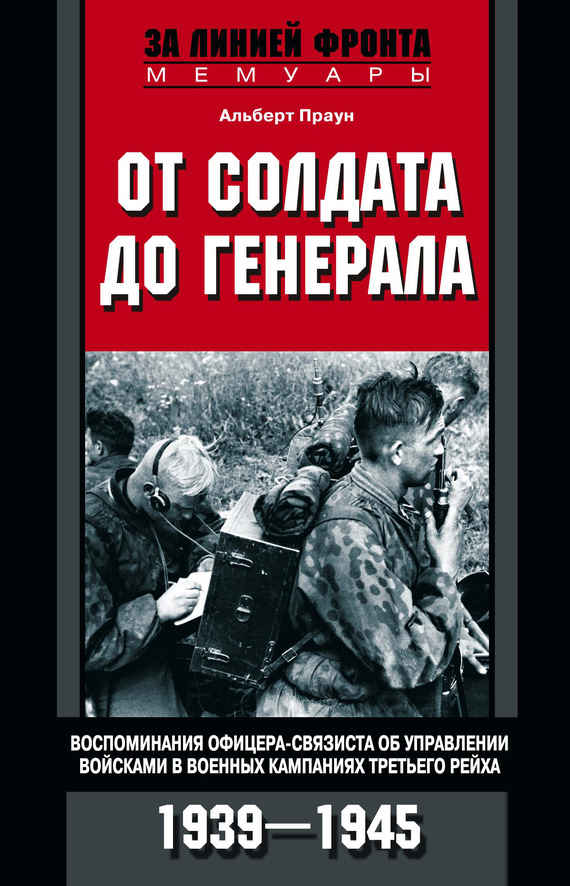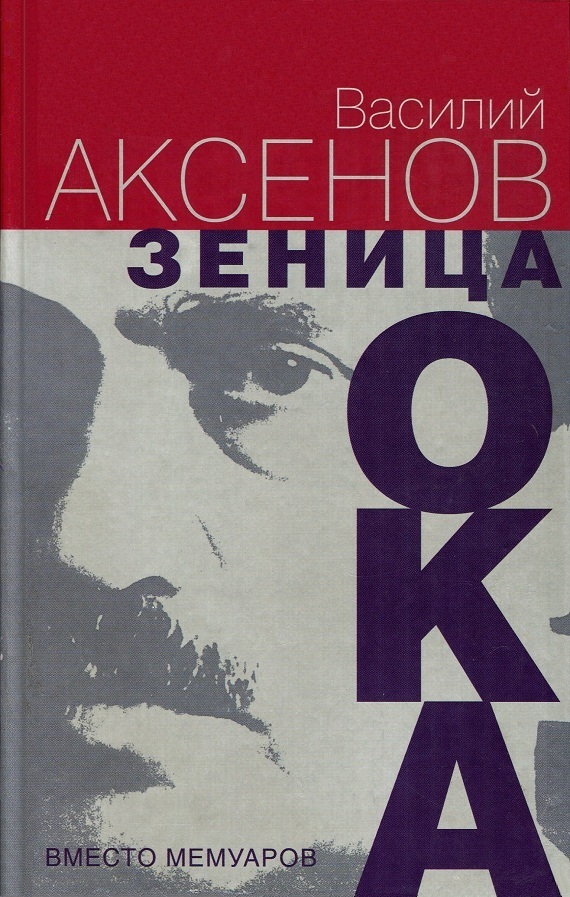Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
За годы Второй мировой войны Курт Хохоф, служа в вооруженных силах Германии, прошел путь от рядового солдата до офицера. Он принимал участие в действиях гитлеровской армии на территориях Польши, Франции и Советского Союза. В обязанности связного Курта Хохофа входило ведение журнала боевых действий его полка, что помогло ему восстановить события, участником и свидетелем которых он являлся. Обладая несомненным литературным талантом, хорошо образованный немец подробно описывает жестокие бои на Днепре, на подступах к Дону и под Сталинградом, упорное сопротивление Красной армии. И о том, как он размышлял о будущем Германии, как наступило отрезвление и понимание надвигающейся катастрофы
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Курт Хохоф»: