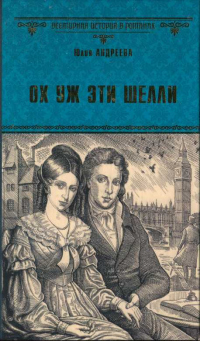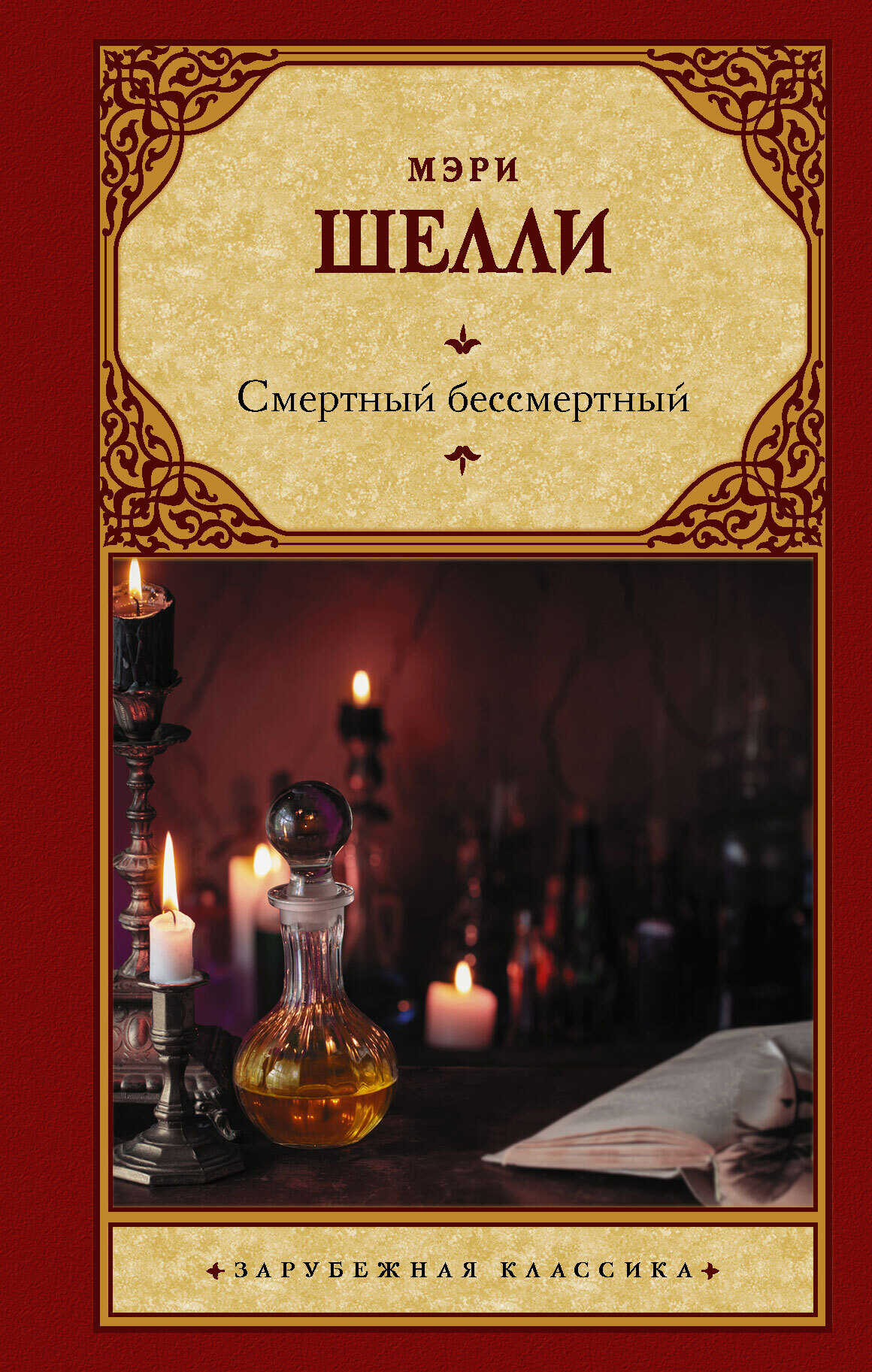Шрифт:
Закладка:
Мощный психологический триллер, где на границе реальности так просто встретиться с другим собой.Призракам не нужно следовать за тобой. Они – это ты…Вся жизнь Мэгги Маккей – сплошное проклятие. Девушка не может избавиться от ощущения, что с ней что-то не так. Что она – кто-то другой…Когда ей было пять лет, Мэгги внезапно объявила, что на отдаленном шотландском острове Килмери – на котором она никогда не была – убит мужчина. И что теперь она – это он. Сенсационное заявление маленькой девочки привлекло внимание СМИ. Полиция начала расследование, которое так ничем и не закончилось, – тело погибшего не нашли. И немудрено – в ту ночь остров накрыло чудовищным штормом…Теперь, почти двадцать лет спустя, Мэгги приезжает на Килмери, твердо решив выяснить, что там произошло на самом деле…«Великолепно и жутко». – Daily Mail«Один из самых атмосферных романов года… Джонстон укрепляет свою репутацию восходящей королевы готики». – Crime Reads«Атмосферно и захватывающе». – Кэтрин Купер«Повествование, леденящее кровь». – Си Джей Тюдор