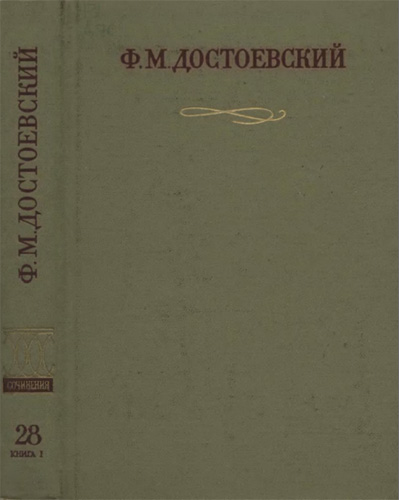Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Переиздание известной повести о жизни лесника на кордоне, об охране леса.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Борис Николаевич Сергуненков»:
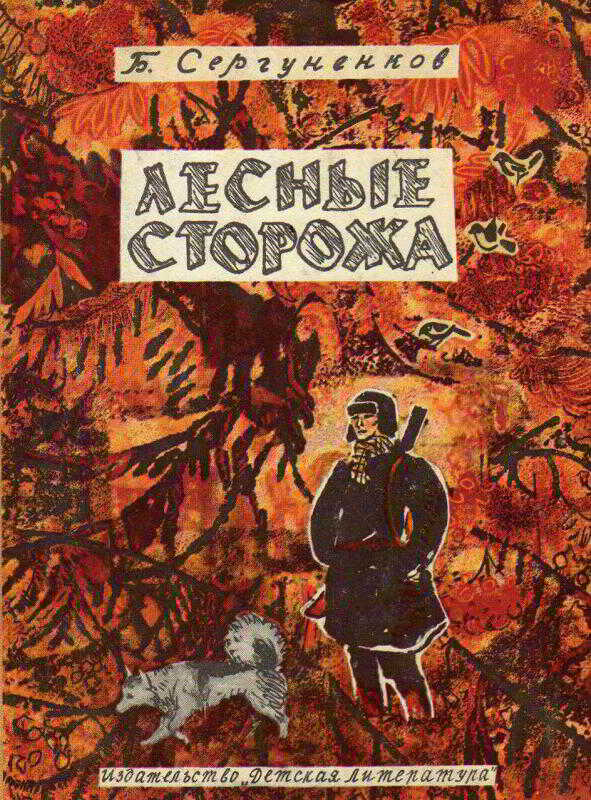
![Сказки [без илл.] - Борис Николаевич Сергуненков](/uploads/posts/books/11835/11835.jpg)