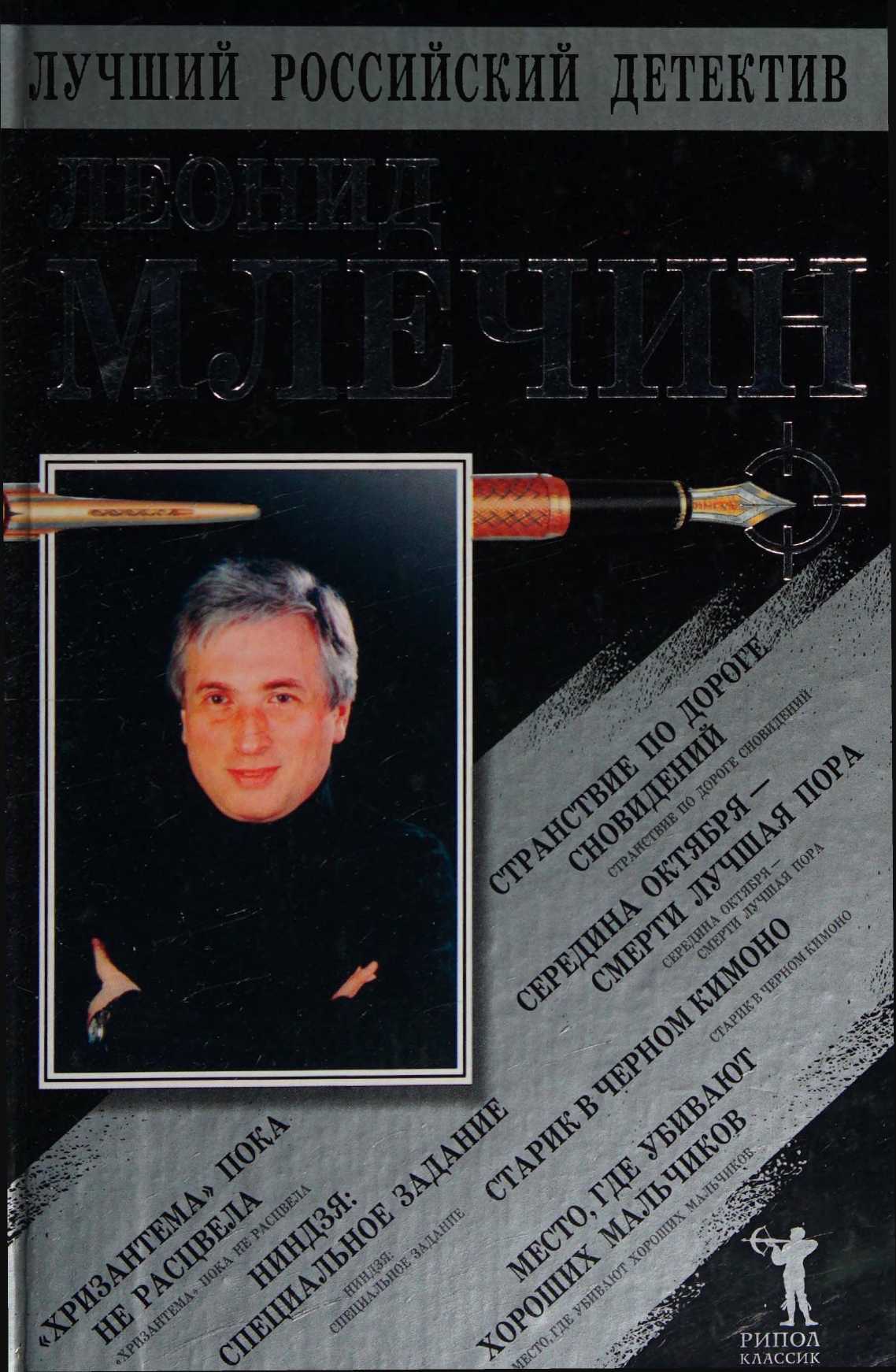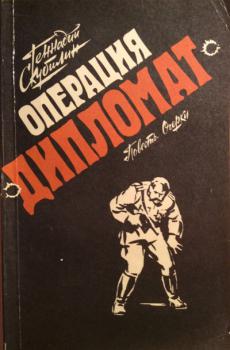Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
О мужестве, о смелости подпольщиков, о предательстве и героизме, обо всем этом можно узнать из книги В. Шутова. До написания книги автор на протяжении нескольких лет собирал материал о подпольщиках Донбасса, не смотря на то, что архивы по донецкому подполью весьма скупы. Своей книгой он воссоздал деяния наших земляков, открыл неизвестные до этого имена народных мстителей. Сейчас более десятка улиц Донецка названы именами героев подполья. За основу в произведении взяты реальные события, многие герои носят настоящие фамилии. Благодаря книге воссозданы события войны в родном краю писателя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Васильевич Шутов»: