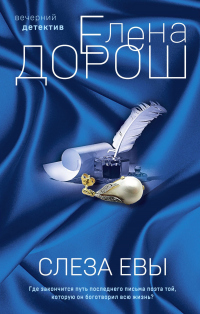Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Индивидуальные воспоминания автора содержат типичные черты Той Нашей жизни. Вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам того времени, автор защищает кандидатскую, потом докторскую диссертацию, воспитывает школу молодых ученых. Жизнь автора была богата встречами и дружбой с интересными людьми. После развала науки автор уезжает работать в США, поближе к сыну и внукам. Сформировавшиеся в последующие 20 лет впечатления описаны в книге «Привет из Чикаго. Перевод с американского на русский и обратно». Все фото из архива автора.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Нина Фонштейн»: