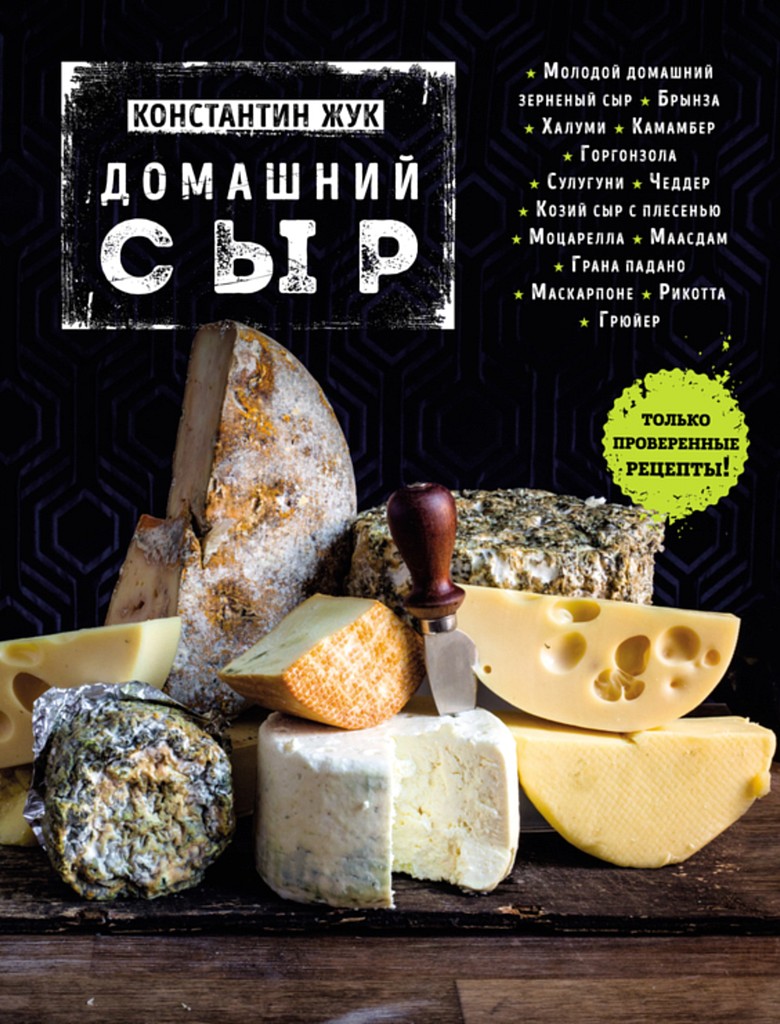Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Жук - это захватывающий роман Ричарда Марша, в котором четыре разных персонажа рассказывают о своей встрече с загадочным и ужасающим существом, способным менять форму и внушать страх. Кто или что такое Жук? Откуда он появился и каковы его цели? Эти вопросы будут мучить героев и читателей, пока они не дойдут до финала, полного неожиданных поворотов и откровений. Ричард Марш - мастер напряжения и атмосферы, который создает уникальный образ мистического монстра, влияющего на судьбы людей. Жук - это книга, которую вы не сможете отложить, пока не узнаете всю правду. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и погрузиться в мир тайн и ужасов. Но будьте осторожны: Жук может заставить вас забыть обо всем, кроме себя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ричард Марш»: