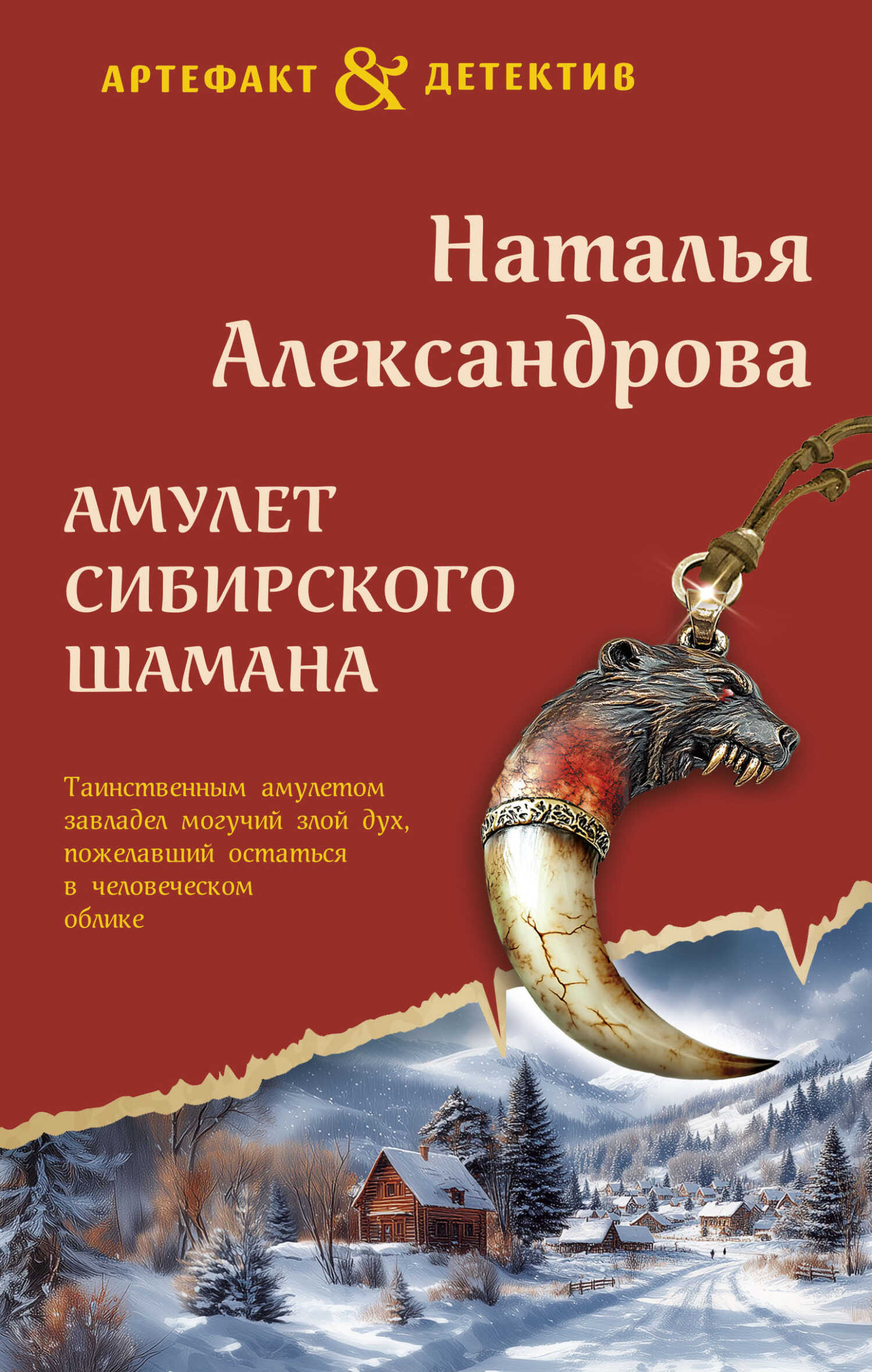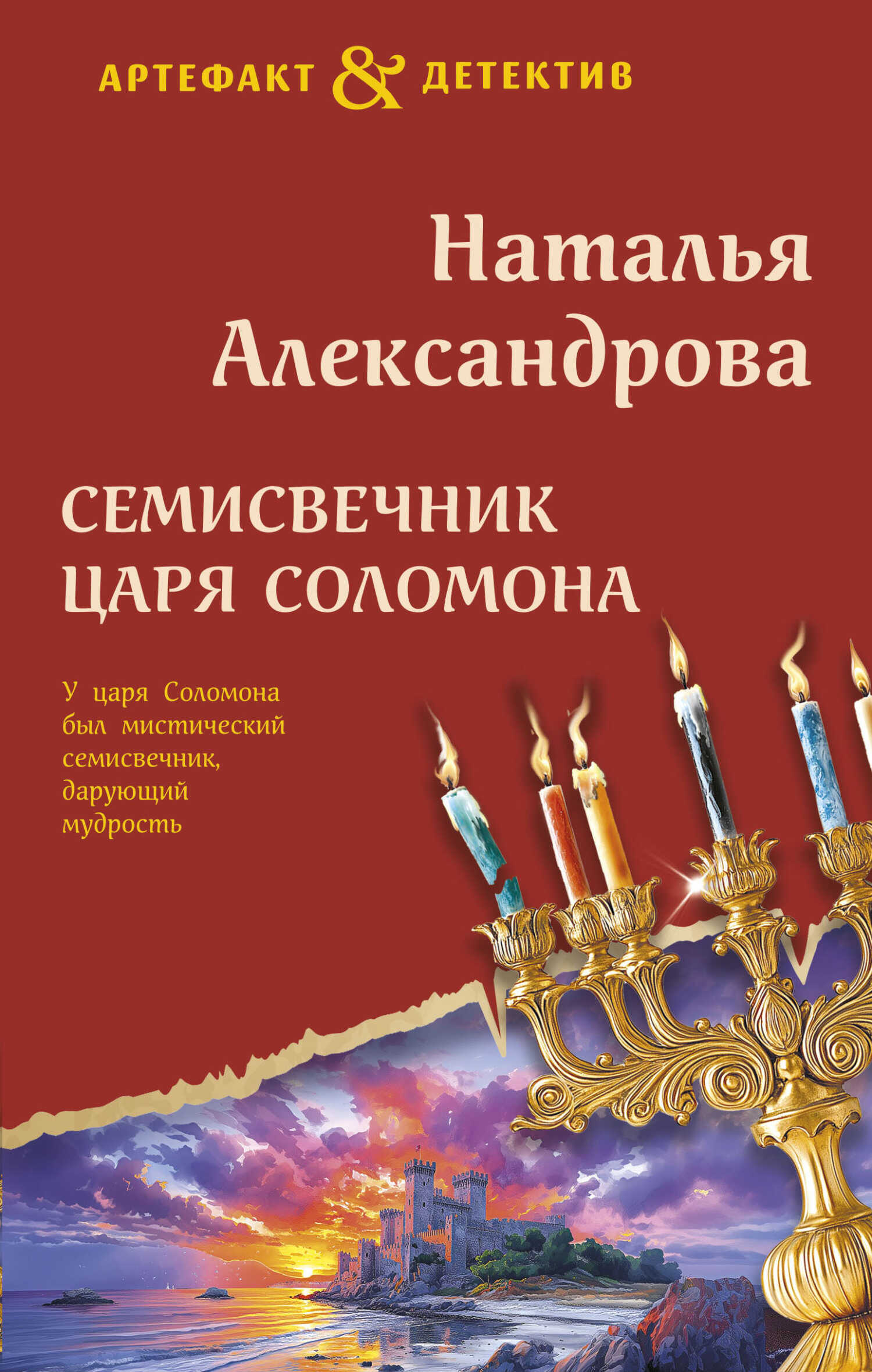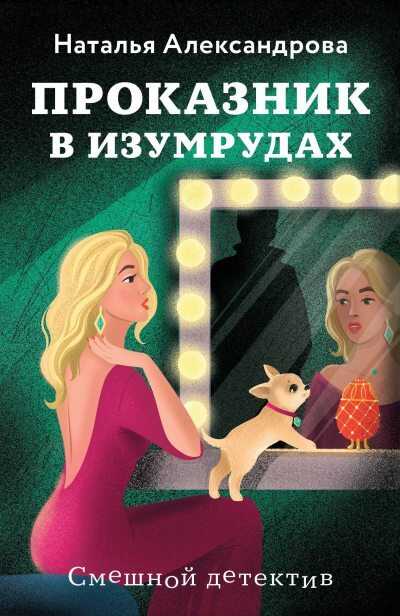Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Древнеегипетский фараон Эхнатон решил пошатнуть могущественную касту жрецов, уменьшить их власть и влияние, в этом деле ему помог магический жезл… У Аманды было тяжелое детство, и только встреча с известным ученым Михаилом Филаретовичем, который помогал ей и опекал девочку, изменила ее жизнь. Филаретович устроил ее на работу в Музей древнеегипетских древностей. Внезапно он умер, и Аманда решила узнать настоящую причину смерти ученого. Перед кончиной он звонил по телефону и услышал что-то, отчего у него остановилось сердце…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталья Николаевна Александрова»: