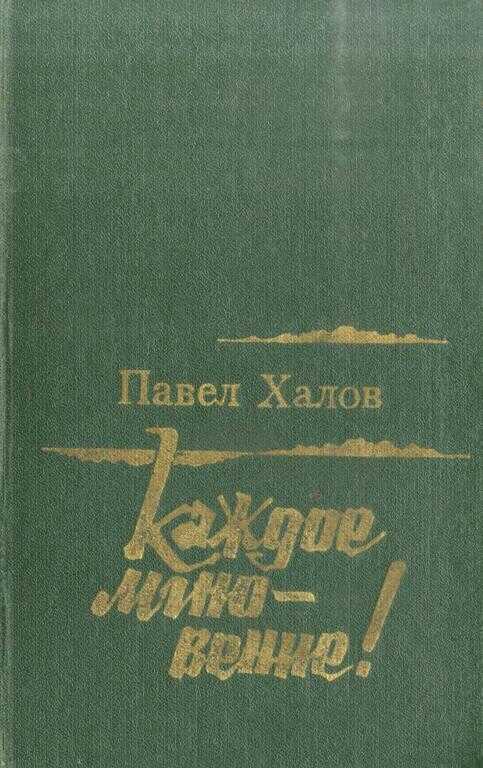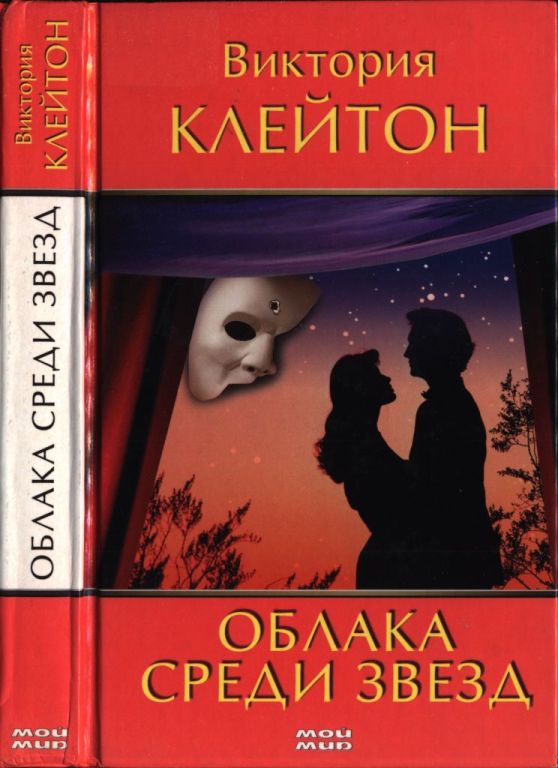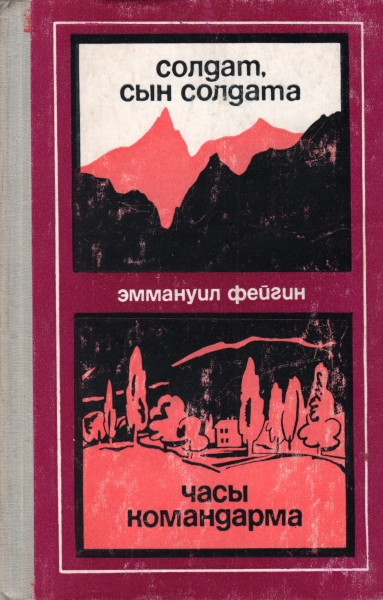Шрифт:
Закладка:
Армия, не останавливаясь, катилась на восток — воевать с Японией. А батальон Степанова сняли, вместо него, вооруженного «ИСами-вторыми», пошла часть ИС-3. Степанов получил отпуск. И он опять очень долго ехал, но теперь уже один — в тамбурах переполненных вагонов, на крышах, потом ехал на попутном грузовике через весеннюю хлябь Заволжья — в село Алексеевку, где обосновалась его семья. Ему повезло, в общем-то. Еще до войны, буквально за несколько месяцев до войны, уже после того, как не стало человека, которого он возил, он отправил свою семью — жену с тремя пацанами — к матери своей за Волгу, в деревню, а сам туда приехать не успел. И теперь он ехал туда — с тугим рюкзаком за спиной, в новенькой шипели, с орденами и нашивками за ранения. И только там, в черной бане, на полке, когда жена его хлестанула по широкой, с глубоким желобком и иссеченной шрамами от ожогов спине, он понял, что война кончилась. Кончилась, и все тут. Кончилась во всем, и теперь должны были наступить иные времена. И он больше не хотел никем командовать, он с удовольствием бы снова сел за руль автомобиля, но еще не мог этого сделать, потому что командовал батальоном и находился в отпуске, и должен был вернуться в часть. А ему этого смертельно не хотелось.
Всю жизнь Степанова спасало чуть-чуть. Он чуть-чуть не сгорел в танке, но горящий танк провалился в огромную от фугаса воронку, залитую жидкой грязью, и, спалив себе спину и правое плечо, Степанов остался жив.
И в деревне, дома, Степанову повезло: слишком старательно хлестала его веником в бане жена, словно вымещая ему за годы вынужденного вдовства, нищеты, страха за него и за детей, за то, что умер самый маленький. Открылись его старые раны. Ожоги открылись — так, оказывается, бывает, если ты во время ранения был истощен, как дистрофик. Степанова положили в госпиталь, и военкомат отправил в его часть бумагу, где было сказано, что Степанов к дальнейшему прохождению службы в строевых частях танковых войск на командной должности не пригоден.
Болел Степанов трудно и долго. Когда заглянули вооруженным глазом в его нутро, оказалось, что тот кашель, что мучил его, если он засыпал на спине, и до рвоты колотивший его по утром от первой «козьей ножки», — хроническая двусторонняя пневмония. А то, что ноги у него подлетали до самого потолка, когда доктор ударял резиновым молоточком по чему-то странно электрическому в коленках, и то, что порою в сырую прохладную погоду в руках его, обычно крепких, вдруг исчезала сила и он, как малый ребенок, не мог поднять на вытянутой руке чайник с водой, оказалось полиартритом. Почти полгода, до февраля, провалялся он в госпитале.
По воскресеньям Степанов с молчаливого согласия старшей сестры — как местный житель — ходил домой. А дом-то, хата — он и в Ленинграде так называл свою квартиру — из окна палаты видна. И было видно ему, как Дуська за водой ходит, как рубит дрова, как бегают его пацаны, видно было, когда оживал над трубою дымок: готовили там еду — что могли. И он знал, что это за еда — вареная в мундирах картошка, половина вилка квашеной капусты, по прозрачному ломтику хлеба да по кружке забеленного снятым молоком кипятка с сахарином. А может быть, так долго поправлялся Степанов оттого, что всю неделю ухитрялся собирать для своих сахар, который давали не в чае, а отдельно, чтобы подозрений не было, — вот они, твои пятнадцать граммов, хоть взвешивай, и масло давали отдельно — кубиком, командирское и госпитальное масло. Бывали и котлеты на две трети из хлеба, но все же с запахом сковороды. Все это он собирал и откладывал, и хлеб откладывал, оставляя себе самую малость, чтобы только не падать в голодные обмороки. И до страсти жалел, что перловый суп варят с тушенкой, а волокна эти бледно-розовые не соберешь.
Дуся не брала у него сэкономленные им продукты. Вернее, однажды взяла, вначале. Потом, на другое воскресенье, она сказала ему:
— Нет, Коля, не надо. Мы здоровые, а ты больной. Трудно, конечно, сейчас всем трудно, но теперь нам обрат после сепаратора дают. Продержимся. Ты вот скорей поправляйся.
А он не мог есть свой офицерский паек, в горло не лезло. На фронте бы ничего: и потому, что и там случались дни и недели зверского голода, и потому, что оружие и машина требуют от мужика силы. И он, зная; как тяжело в тылу, ел на войне, суровея лицом, словно делал неизбежное дело. А здесь даже скулы судорогой сводило, когда смотрел на желтый брусочек сливочного масла на двухсотграммовом пайке, — так и вставили перед глазами его ребята: старшему пора было усы иметь, а сквозь него только что не видно было все, что сзади оказывалось. И он собирал харчи. Пацаны приходили, старший не брал — младший брал. И вот однажды Дуся пришла к нему в неурочное время.
Он издали увидел ее. Волосы были не покрыты, лицо бледное, платок она волокла в руке за собой, а телогрейка была не застегнута, хотя осень стояла препротивная — слякотная, сырая, пробирающая голодное и измученное тело, как морская плесень сапоги пробивает, — навылет. Он накинул байковый халат на изорванную спину, — ожоги не бинтовали — и поковылял к ней — вниз, на школьный двор, который с того момента, как школу превратили в госпиталь, огородили железным, в рост человека, прутком.
Степанов запомнил эту встречу с женой на всю свою жизнь. Больше того, он запомнил ее так, что порою ему казалось, что и после своей смерти он будет помнить и сухие ее, почти умершие глаза, и бледный в морщинках уже и сухой, словно истаявший рот, и побелевшие косточки на руках, когда она взялась за граненые черные прутья ограды и приблизила к нему свое лицо без единой кровинки в нем.
— Ты что же делаешь… Что же ты делаешь! Ты бы детей пожалел. Тебя тут кормят, чтобы ты здоровый сделался. Устала я одна! Устала! Я умереть хочу. Я пятый год тебя жду. Ты думаешь — это жалость и доброта твоя? Это не еда, лекарство это твое, понял ты, дубина стоеросовая!
И только тут она заплакала, прижавшись к железу лицом, и Степанов видел, как слезы ее попадали на