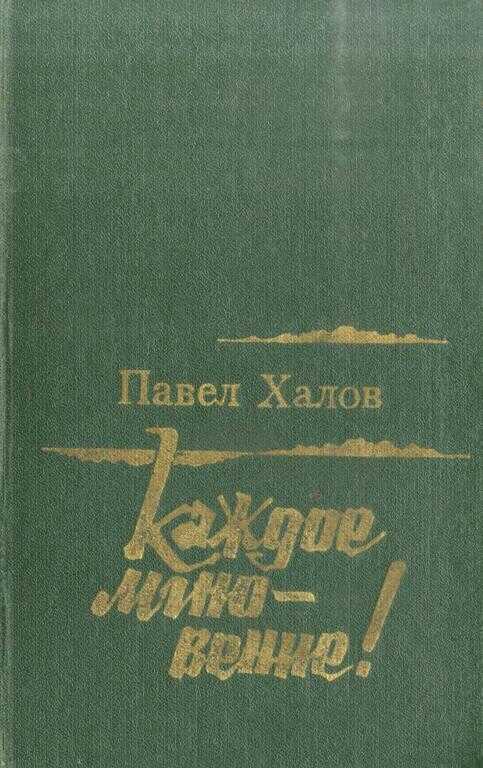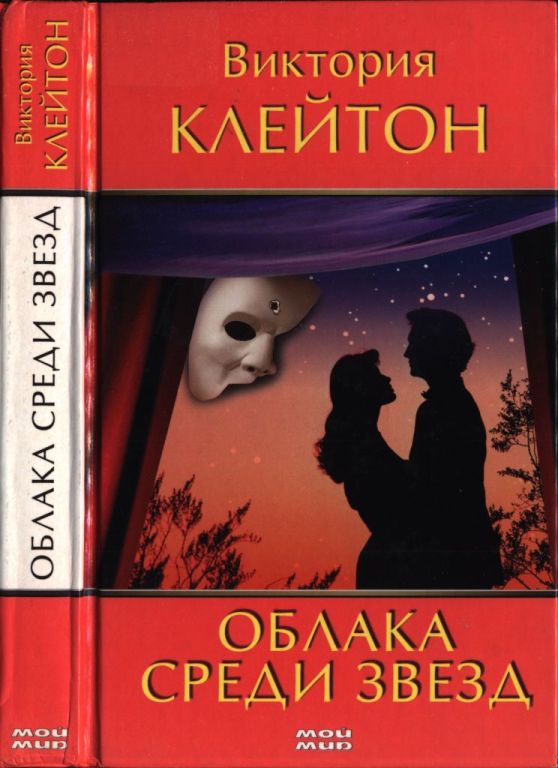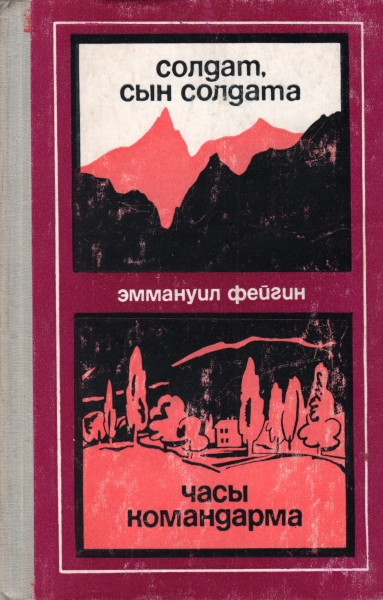Шрифт:
Закладка:
— Ты мне, старому солдату, не темни. Я знаю, что ты тут шастаешь: технику разбитую, которую починить можно, ищешь. Без меня не найдешь, а найдешь — взять не сможешь. Что ты один-то сделаешь с кобыленкой своей, майорская твоя голова? Давай таким макаром: я те людей дам и сам пойду, я здешние места во как знаю — война вот тут остановилась, на землях наших, у хутора Красного…
На степановской лошаденке, но уже вдвоем отправились они в сторону Волги. Самогон, настоянный стариком на каком-то пронзительном бронебойном зелье, еще грел их обоих изнутри, и то взаимопонимание, и та согласность, что осенила их обоих, позволяла им молчать по-братски и думать потихоньку о своем. Постукивала старыми копытами лошадь, скрипел под изъезженными полозьями сухой от добрых морозов снег, стелилась по сторонам степь, то вздымаясь невысоким, но долгим холмом, то некоторое время маяча горсткой деревьев, черных на белом снегу, но уже с потяжелевшими и заметными на светлом небе ветвями. А впереди подкатывала Волга — белая и неподвижная, с проблесками голого, без снега, льда, с торосами и с одинокой колеей, где изредка чернели видимые издалека лошадиные катышки.
Посередине Волги остановились, сошли с саней на лед. Вокруг стояла такая морозная благодать, такая тут царствовала тишина, словно никогда и людей здесь не было, а только они двое и остались на белом свете.
Председатель знал округу, как свою ладонь. И нашли они в балке — мобилизовал он пацанов из двух окрестных сел на это — и брошенные разоруженные танки, и мордой в воронке грузовик. Видимо, ударил снаряд или бомба перед самым радиатором — в снегу-то и не разберешь, что это было, но Степанов представил себе, как встала машина, поднятая огненным смерчем на дыбы, уже с мертвым водителем, и как рухнула она в еще горящую ямину перед собой, и груз ее, не свалившись назад, потому что еще держали крепления, пошел вперед, раздавил смятую взрывом кабину, калеча окончательно тех, кто уже умер в ней, и вломился в воронку.
Пацаны, бабы, фронтовики, уцелевшие на фронте, разошлись по балкам и руслам притоков Волги, полезли по высокому правому берегу. И еще нашли. Нашли целехонький семитонный «бюсинг» — на спущенных баллонах, с побитыми стеклами и фарами, но целый. Видимо, бросили его оттого, что кончилось горючее, а может быть баллоны побило осколками или пулеметами посекло, а может все вместе взятое. Бросили машину хозяева. И, вероятно, лежат они где-то неподалеку, высосанные досуха землей, которой очень хотели владеть.
И проснулся в Степанове задремавший было командир. А в председателе — хозяин. Собрали в самой большой хате — контора колхоза тесной показалась, — всех, кто мог прийти, и пацанов тоже, и учительницу позвали…
Развели костры возле брошенной и порушенной техники. Нашлись бывшие солдаты, имевшие когда-то дело с машинами, умеющие держать ключи — грели ключи на листах железа на углях: сняли с «зиса» задние колеса, и задний мост, и коробку, и кардан с крестовинами, и рессоры, вырыли ломами из воронки двигатель, выволокли все это наверх под «Дубинушку». Двое суток работали на тридцатиградусном морозе, отогреваясь в полупалатке-полушалаше с жаровней из старой железной бочки посередине, меняясь. То, что осталось от водителя и сопровождающего, собрали на мешковину и укрыли до поры чуть поодаль. Степанов нашел в кармане полуистлевшей гимнастерки среди лохмотьев прелой овчины — солдат был в полушубке — медальон. Открывать не стал: в военкомате откроют. У второго ничего не было, взрывная волна ему досталась в большей степени — только кости в сапогах да позвонки серой горкой под снегом на сиденье недогоревшем. Нашел Степанов ключи и поршень — приспособление, чтобы камеры клеить, и шмат сырой, задубелой на морозе резины. У немцев на «бюсинге» этого не было. Зато ключи были — полный набор из отличной стали, ими и работали, иначе нипочем не снять бы моста со стремянок.
Все смогли они сделать, одного только не могли — перегнать снег на бензин и аккумулятор «бюсинга» оживить. Надо было ехать в район. Но Степанов боялся оставить все это богатство.
— Давай так, — сказал председатель. — Похороним ребят. Звездочку им фанерную поставим. И напишем: «Могила пока неизвестных солдат». Так и напишем давай, чтобы «пока» было. А потом, раз ты такой уж предусмотрительный, оставайся здесь. Пару мужиков уговорим с тобой переночевать. А я на лошаденке в район. Да и пора домой позвонить…
На другой день, к полудню, пригнал председатель трактор, за трактором — тяжелые сани и сам следом в степановских санях приехал: аккумулятор привез и бензин, и паяльную лампу. В кабине трактора приехал еще и второй секретарь райкома — не танкист в прошлом и не механик, до войны учителем истории был.
— Неужели пустите этого мастодонта? — недоверчиво спросил.
— Пущу. Умру здесь, а пущу. Он же целый, черт бы его побрал, товарищ секретарь, только к здешним условиям не привык.
— А окна? Поморозитесь же!
— Я в открытом люке зимой ходил… Фанеры, жаль, нету. Была бы фанера да кусок оконного стекла…
— Ну, а если найдем фанеру? Председатель, неужели у тебя в хозяйстве фанеры куска не найдется?
— Если бы фанера — половину законопатить, во второй прорезать квадратик, вставить туда стекло, болтиками, даже гвоздями скрепить — вот и лобовое, обзора хватит.
— А у меня в хозяйстве, товарищ секретарь, всего полно, как у коробейника…
— Тогда кусок брезента — то же самое можно сделать — стекло туда вшить. А нет так нет. Здесь километров шестьдесят будет. Не более того.
— Сорок. Сорок километров, танкист. Или тебя сейчас лучше бригадиром называть?
— Это как удобно вам. Мне все равно. Я пущу этого — как вы его назвали?.. Этого самого мастодонта, пущу его. В нем сил двести, никак не меньше. Удобрения на поле вывозить. Колесища у