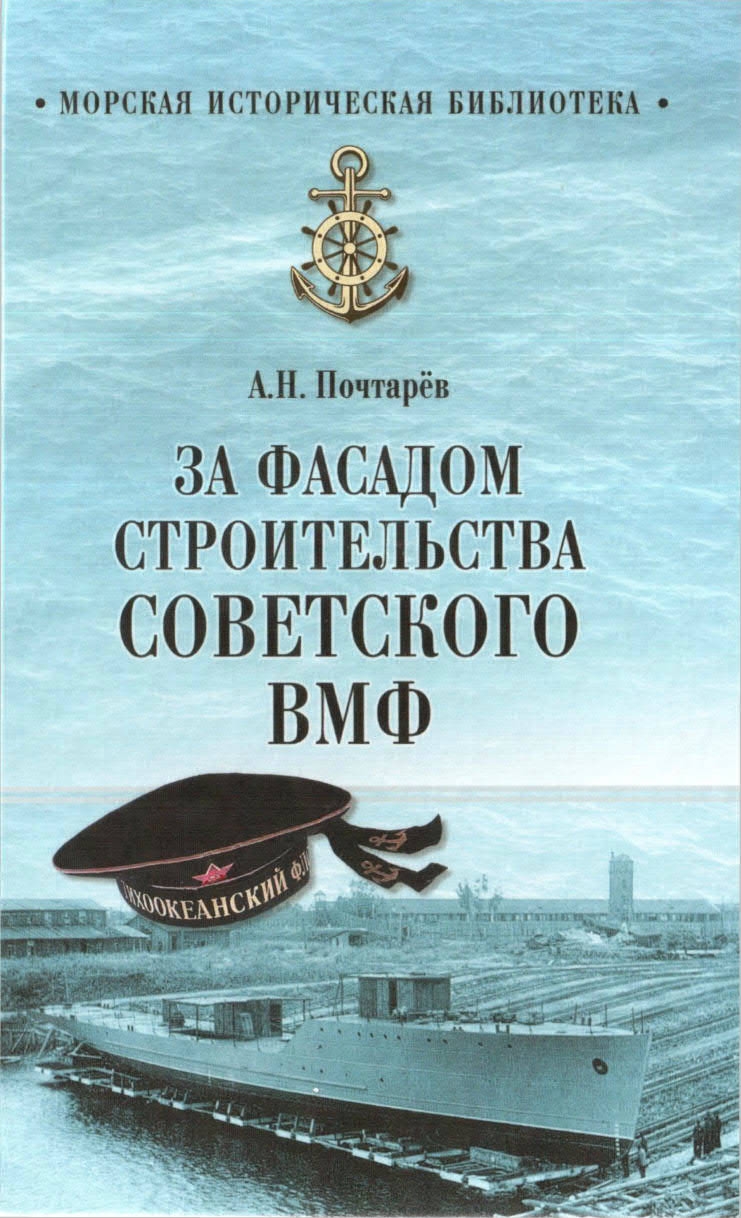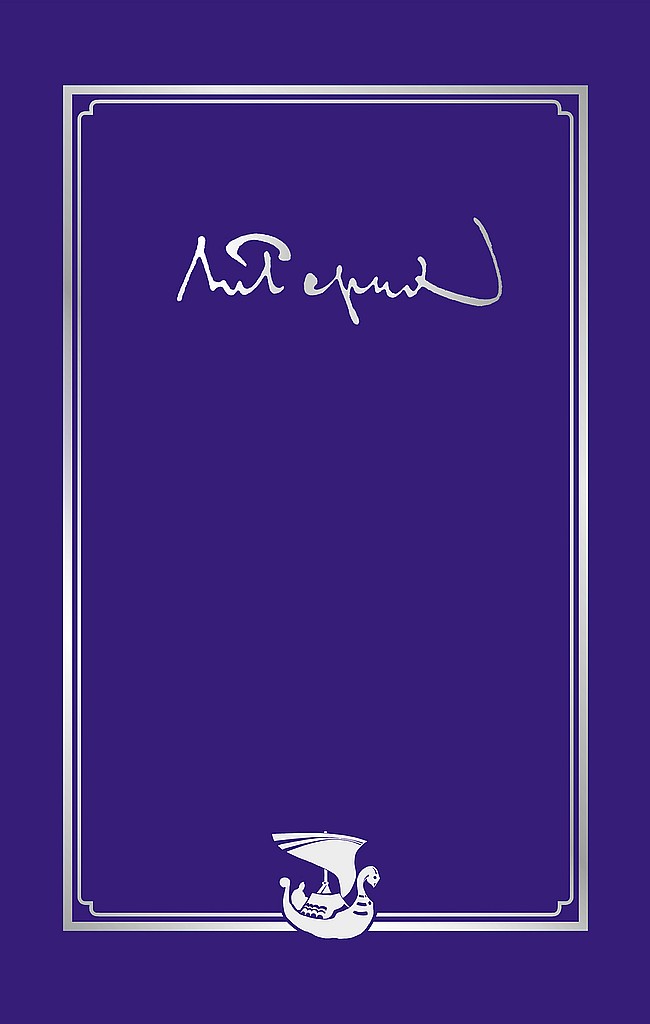Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Пушкин стал всенародным достоянием в советские времена, когда его книги появились в каждом доме. В этой книге можно впервые узнать из первых уст, как воспринимали Пушкина в первые десятилетия СССР. Пушкин в СССР — это великий феномен. В этой книге собраны материалы и свидетельства того времени, в которых творцы советской культуры исследуют Пушкина, определяя его место в цивилизации победившего социализма. Советский Пушкин — это не фантастика, а реальность.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Арсений Александрович Замостьянов»: