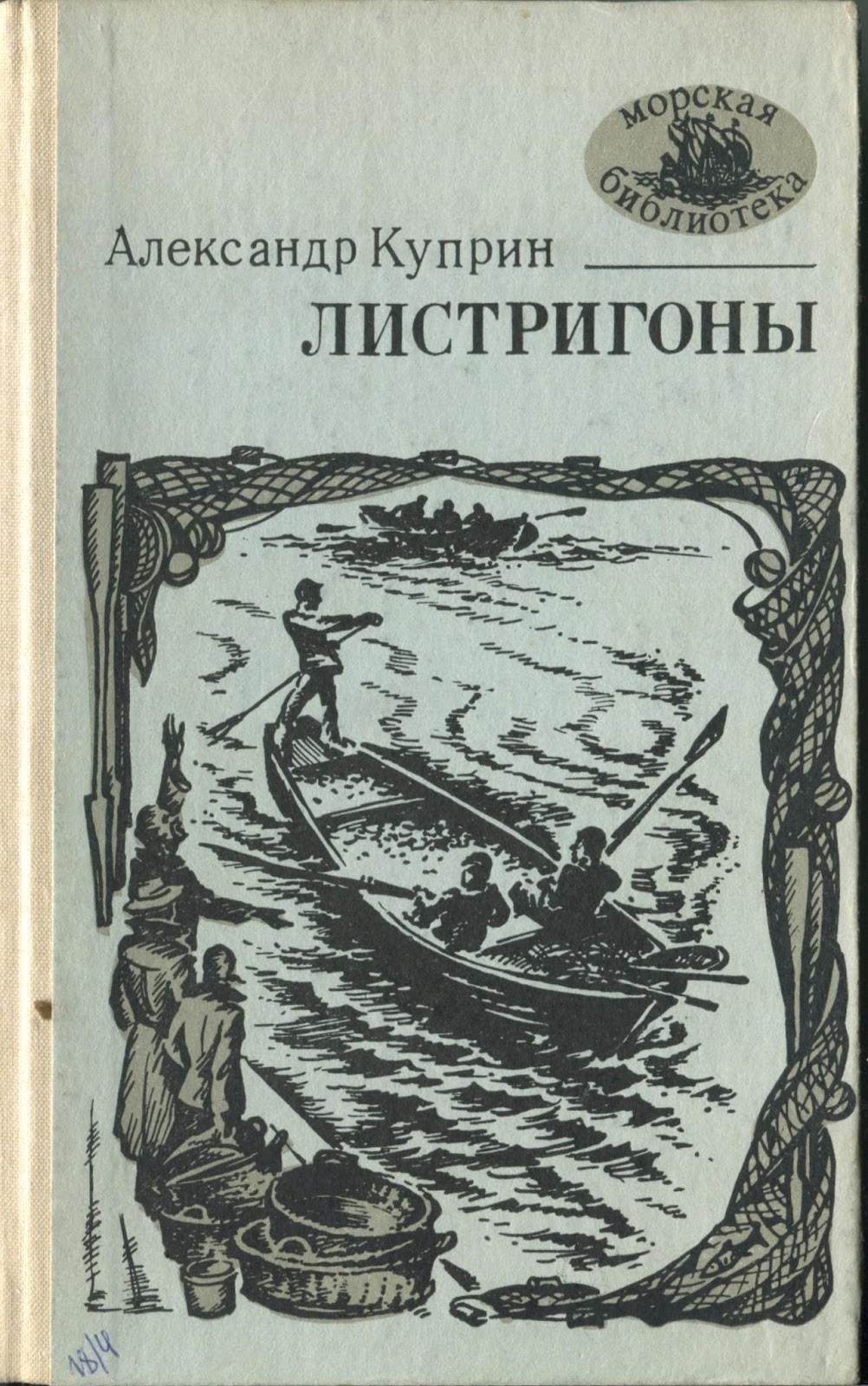Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Демин В. Н. Ущелье Печального дракона. Научно-фантастические роман, повесть, рассказ. М., Прометей, 1989. — 188 с., ил. В сборник включены научно-фантастические произведения. Основной лейтмотив романа, рассказа и повести — ответственность человека перед историей и за свою судьбу. © Дёмин Валерий Никитич, 1989 г.
Издание осуществлено за счет средств автора
fb2: особенности орфографии автора сохранены.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Никитич Демин»: