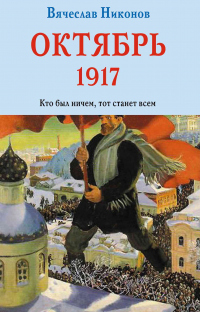Шрифт:
Закладка:
Воспоминания видного киевского юриста А.А.Гольденвейзера о жизни в Киеве в 1917—1920 годах являются одним из важнейших источников по истории Украинской революции на Украине. Частично они были опубликованы в сборнике "Революция на Украине по мемуарам белых" (С.А.Алексеев, сост., Госиздат, Москва — Ленинград, 1930, репринтное воспроизведение: Изд-во полит.лит. Украины, Киев, 1990). На этот раз вниманию читателя предлагается полный текст воспоминаний, опубликованных в издававшемся И.В.Гессеном «Архиве русской революции» (текст датирован апрелем 1922 года), в том числе, главы, не включенные в советский сборник 1930 года: Глава IV "Большевики (февраль—август 1919 года), Глава V "Добровольцы (сентябрь—ноябрь 1919 года)", Глава VI "Большевики и поляки (декабрь 1919—июнь 1920)", Глава VII "Снова большевики (июль 1920—июль 1921)". В качестве приложения в издание также включена не издававшаяся в СССР заключительная часть воспоминаний "Бегство" ("Архив русской революции", изд. И.В.Гессен, том XII, Берлин, 1923), описывающая побег автора и его жены из Киева в Германию в 1921 году. Об авторе: Алексей Александрович Гольденвейзер (1890—1979) — российский юрист, писатель и издатель, деятель русской эмиграции. Родился в семье известного киевского адвоката Александра Соломоновича Гольденвейзера (1855—1915). Его старшие братья, — Александр Александрович (1880—1940) и Эммануил Александрович (1883—1953), — совсем молодыми, в 1900 и 1902 году соответственно, эмигрировали в США и оба сделали там блестящую карьеру: первый стал видным антропологом, одним из крупнейших специалистов по истории древних культур Америки, второй возглавлял исследовательский отдел Федеральной резервной системы, был одним из разработчиков положений о Международном валютном фонде и Всемирном банке. Алексей был единственным из сыновей А.С.Гольденвейзера, кто пошел по стопам отца. Юриспруденцию он изучал в Киевском, Гейдельбергском и Берлинском университетах. Будучи студентом, дважды арестовывался, по данным Охранного отделения, принадлежал к студенческой фракции партии-социалистов-революционеров. Уже работая адвокатом, Гольденвейзер-младший принимал деятельное участие в еврейской общественной жизни в Киеве: в 1917 был секретарем Совета объединенных еврейских организаций города Киева, одним из организаторов в Киеве еврейского демократического союза «Единение», делегатом Всероссийской еврейской конференции в Петрограде в июле 1917. В апреле 1918 недолгое время был членом украинской Центральной Рады (Малая рада, апрель 1918). После прихода в Киев большевиков, упразднивших адвокатуру, не имея возможности заниматься адвокатской деятельностью, читал лекции в Институте народного хозяйства и Академии нравственных наук. 28.07.1921 вместе с женой, Е.Л.Гинзбург, тайно бежал из Киева и через Польшу уехал в Германию. Прожил в Берлине около шестнадцати лет. Получить в Германии работу по специальности было нелегко, особенно учитывая переизбыток среди эмигрантов людей «интеллигентных профессий», в том числе юристов. Однако несомненные преимущества молодого адвоката перед многими коллегами, — знание немецкого языка и образование, частично полученное в германских университетах, — помогли ему обзавестись достаточно широкой практикой. Принимая активное участие в деятельности различных общественных организаций, А.А.Гольденвейзер со временем стал одной из ключевых фигур русско-еврейской эмиграции в Берлине. В декабре 1937 семья Гольденвейзеров была вынуждена уехать из нацистской Германии в Америку. По прибытии в США они обосновались в Вашингтоне, а с 1938 жили в Нью-Йорке. Несмотря на трудности в процессе адаптации к американским условиям, А.А.Гольденвейзер смог интегрироваться и в эту, новую для него, жизнь. В годы Второй мировой войны помогал евреям из оккупированной Европы эмигрировать в США, тем не менее, не смог спасти двух своих родных сестер, которые в 1943 были арестованы нацистами в Ницце и депортированы в Польшу. В 1950-е годы защищал в юридических инстанциях интересы граждан, предъявлявших претензии к немецкому правительству. Публиковался в американском ежеквартальнике «The Russian Review». Соавтор двухтомной «Книги о русском еврействе» (1960, 1968). Скончался 4 сентября 1979 года в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. (При подготовке данной аннотации использованы материалы книги О.В.Будницкого «Русско-еврейский Берлин (1920—1941)»).