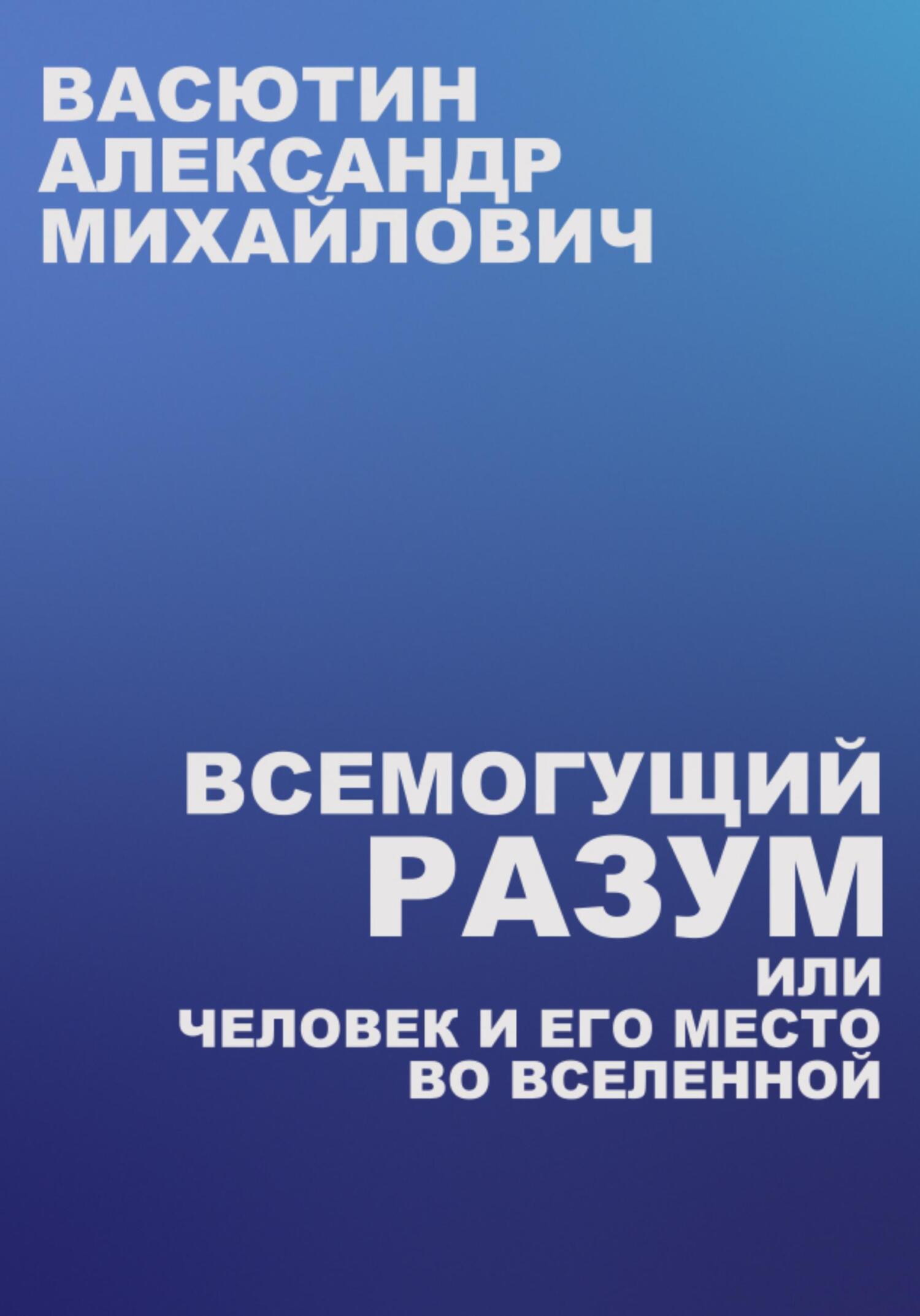Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга доктора философии, доцента Университета Макгилл (Монреаль) Людмилы Парц посвящена рождению и функционированию современного мифа о русской провинции. Парц встраивает нарративы о русской провинции в рассказ о попытке пересборки постсоветской идентичности на основе националистических представлений о локальности и малой Родине. Миф о периферии выводит мечты о подлинной «русскости» за пределы Москвы – туда, где живут настоящие Другие, сохранившие подлинный дух и моральное превосходство как над жителями центра, так и над обитателями условного Запада.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Людмила Парц»: