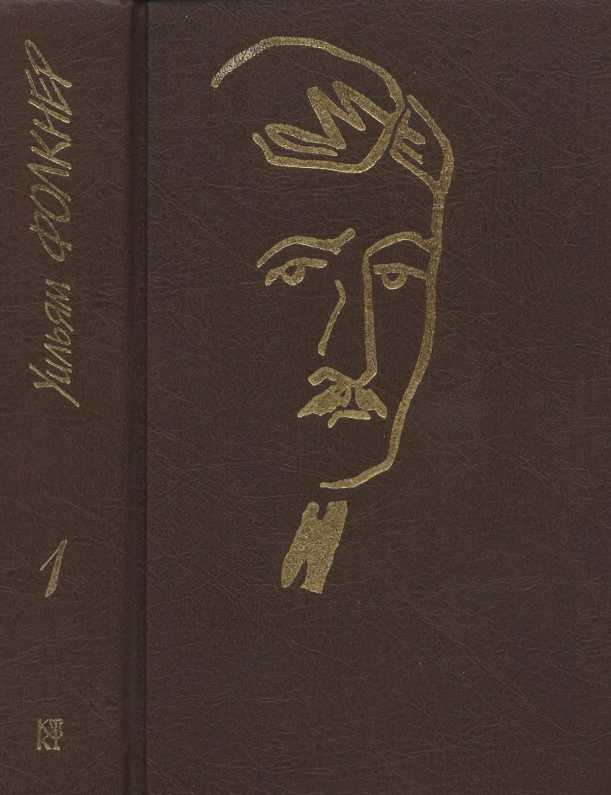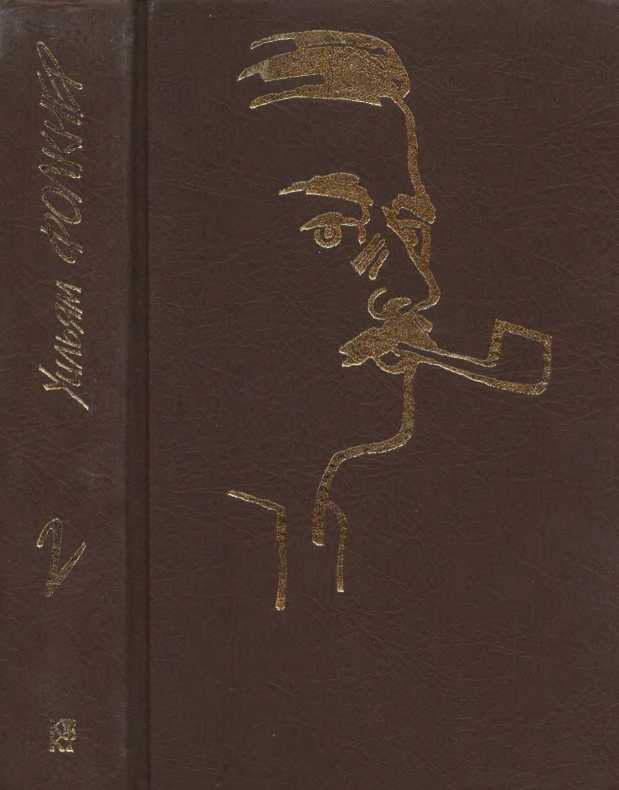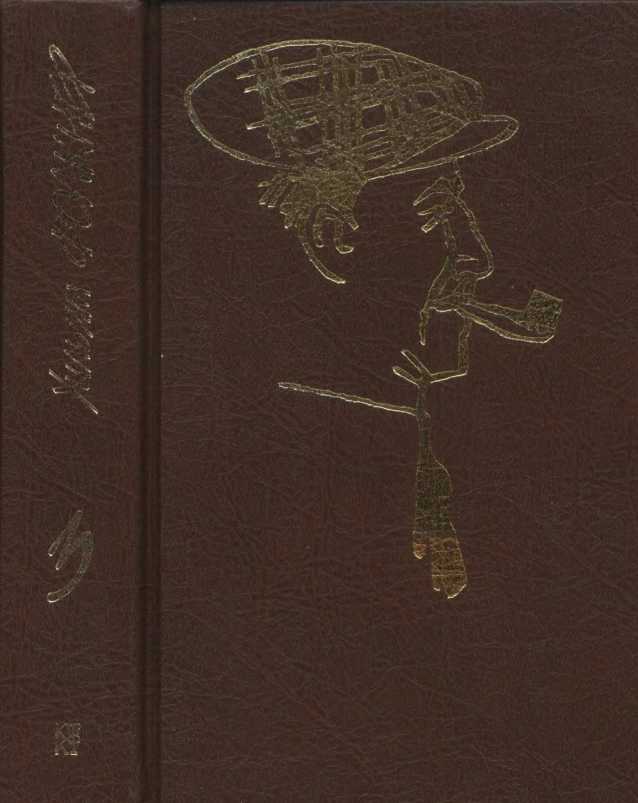Шрифт:
Закладка:
Laylay, balam, yatasan[48],
Засыпай, малыш, усни,
в мире
где тебе принадлежат только сны
Qızılgülə batasan.
Пусть ты утонешь в розах.
сохрани их для долгой зимы
Gül yastığın içində
Şirin yuxu tapasan.
На подушке из цветов
Пусть найдешь ты сладких снов.
тело твое совсем не твое
это тело матерей и отцов
Laylay, laylay, a laylay,
Körpə balam, a laylay.
Спи, мой маленький, баю-бай.
сон и есть дорога в рай
там совсем ничего не болит
там твоя мать никогда не кричит
Laylay, beşiyim, laylay
Evim-eşiyim, laylay.
Sən get şirin yuxuya,
Çəkim keşiyin, laylay.
Спи, моя колыбель, баю-бай
Ты всё, что у меня есть:
Мой дом — мой очаг, засыпай.
Иди смотреть сладкие сны,
А я посторожу твой сон до утра.
ты мой дом но я могу разрушить его
потому что это я тебя родила
Laylay, laylay, a laylay,
Körpə balam, a laylay.
Спи, мой маленький, баю-бай.
буду любить тебя пока
ты еще маленькое тело и большая душа
но когда тело станет больше души
вот тогда и жди беды
птицы летят над Губой[49]
видят как твой отец едет домой
едет смотреть на мать и отца
на его кулак намотаны слова
всех женщин рода: матери и жены
дочери старшей и младшей
а посреди
тихо бежит горная река
там лежат все наши тела.
Мадина Тлостанова
«Всё будет хорошо, тебе еще долго придется собирать кукурузу»: биомифография Еганы Джаббаровой
Увы, нам пока не удалось развиртуализироваться с Еганой Джаббаровой, но даже опосредованное зумом, достаточно короткое общение с ней оставило впечатление чувствительности оголенного нерва, скрытой боли, мощной внутренней силы и осознанного стремления к преодолению. Теперь, прочитав ее повесть, я знаю почему.
Урсула Ле Гуин в своей своеобразной концепции письма противопоставляет истории охоты и убийства и истории жизни, которые можно уподобить логике собирательства[50]. В первых всегда есть главный герой и его трофеи, линейный сюжет триумфа протагониста, а все остальные рассказы и персонажи лишь служат фоном или выступают статистами в главной фабуле успеха. Вторые принципиально нелинейны, как и процесс блуждания в поисках грибов, кореньев или ягод. Они многоуровневы и полицентричны, не выхватывают из жизни некую героическую конструкцию, а пытаются рассказать историю мира вообще, в которой нет главных и второстепенных героев, пафосных сюжетов и простой и ясной телеологии, делающей любую историю конвенционально увлекательной и поучительной для нашего дрессированного определенным образом восприятия. Повесть Еганы Джаббаровой, с ее искренней автобиографичностью, честностью свидетельства и при этом, казалось бы, наличием необходимых элементов Künstlerroman[51] c женским художническим «я» в конфликте с окружением, — это именно такое письмо жизни, письмо собирательницы, а не охотника.
Я прочла этот сравнительно короткий текст залпом, на одном дыхании, а потом вернулась и перечитала уже медленно, с карандашом в руке, смакуя каждую деталь и по-писательски восхищаясь тем, как сделана эта обманчиво простая, компактная книга. История собирательницы Еганы Джаббаровой не могла быть линейной. Она фрагментарна, но составляющие ее виньетки взаимосвязаны и тесно переплетены. Они как бы цепляются друг за друга. Но открывается эта внутренняя взаимосвязь не сразу. Наиболее чудовищный факт, одновременно собирающий повесть воедино, прочно соединяющий ее мнимо разрозненные темы, сообщается как бы между прочим и в конце. Повествование подбирается к нему кругами, исподволь, петляет, запутывает времена и следы повторами с вариациями, периодически возвращается к ключевым событиям, но всякий раз, подойдя к бездне, останавливается, чтобы наконец сообщить нам вероятную причину болезни героини, причем сделать это, опираясь на объективный врачебный авторитет. Такой подход многократно усиливает шокирующий эффект, оставляя оглушенных читателей один на один с никак не откомментированным свидетельством.
Да, пожалуй, свидетельство — это точное слово. Эта книга безусловно исповедальная, она написана в пику репрессивному требованию молчать и не выносить сора из избы, терпеть хроническое обесценивание своей жизни, себя как личности, своей болезни, своих творческих устремлений. Измученная многолетней навязанной безъязыкостью, отсутствием реального собеседника с минимальной эмпатией, авторка доверяет своему тексту то, для чего нет человеческих ушей даже среди самых близких. И если прежде женщины в традиционных культурах нередко рассказывали о своих бедах и горестях священным деревьям, волшебным пещерам и рекам, зашифровывали их в молитвы или, как героиня романа Элис Уокер «Цвет темно-лиловый», сочиняли письма Богу, то Егана написала письмо миру и блистательно нарушила все табу, которые на нее когда-либо накладывались, сотворив при этом терапевтический текст.
Этому эффекту способствует и тот факт, что этот текст уподоблен человеческому телу, а один из его внутренних сюжетов является историей распознавания, узнавания собственного тела, его разрушения вследствие болезни и воссоздания заново. Вместе с alter ego авторки читатели движутся от бровей к глазам, волосам, рту, плечам, прослеживают руки, язык, спину, ноги, горло и живот героини и текста. И это не