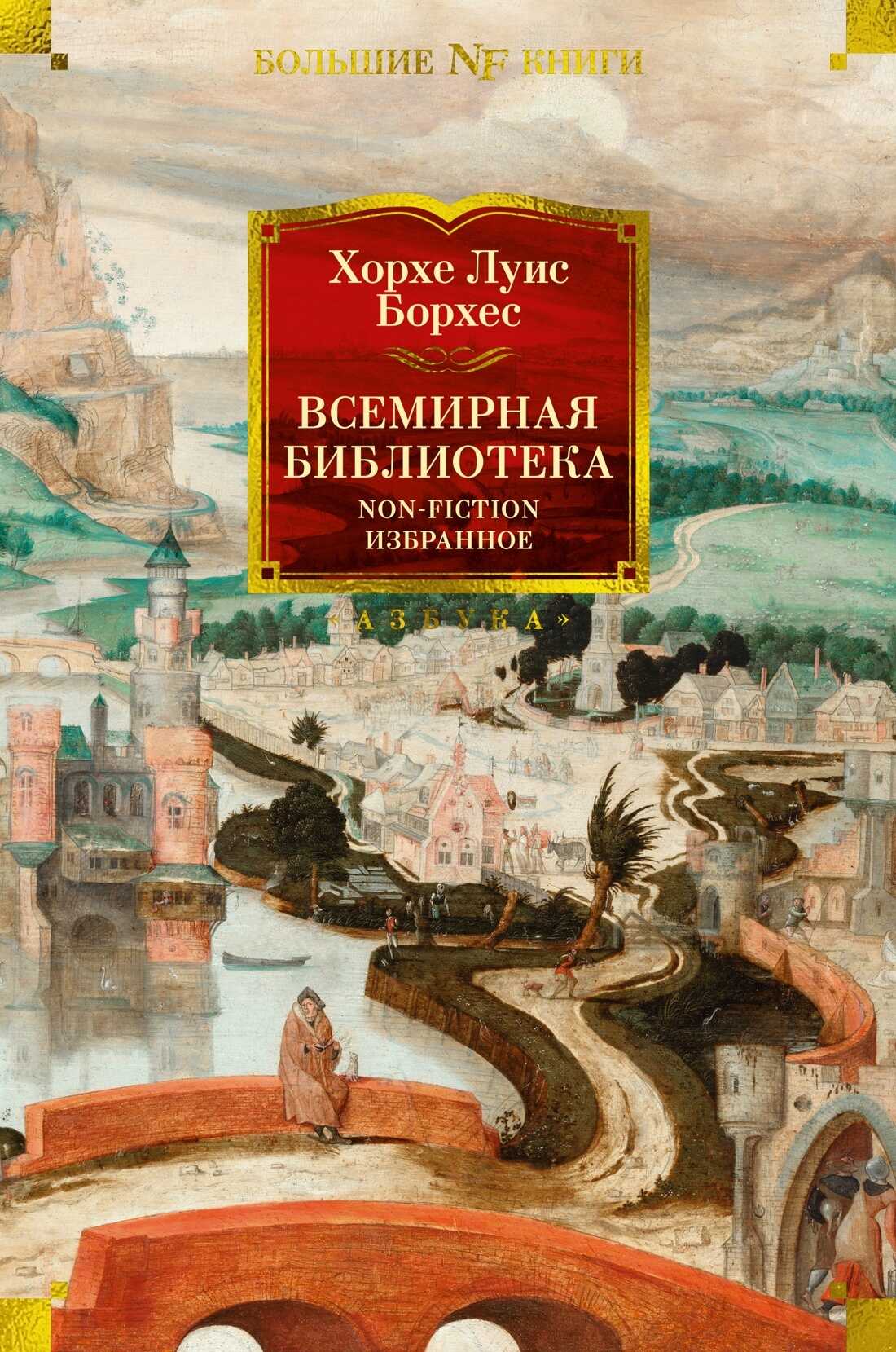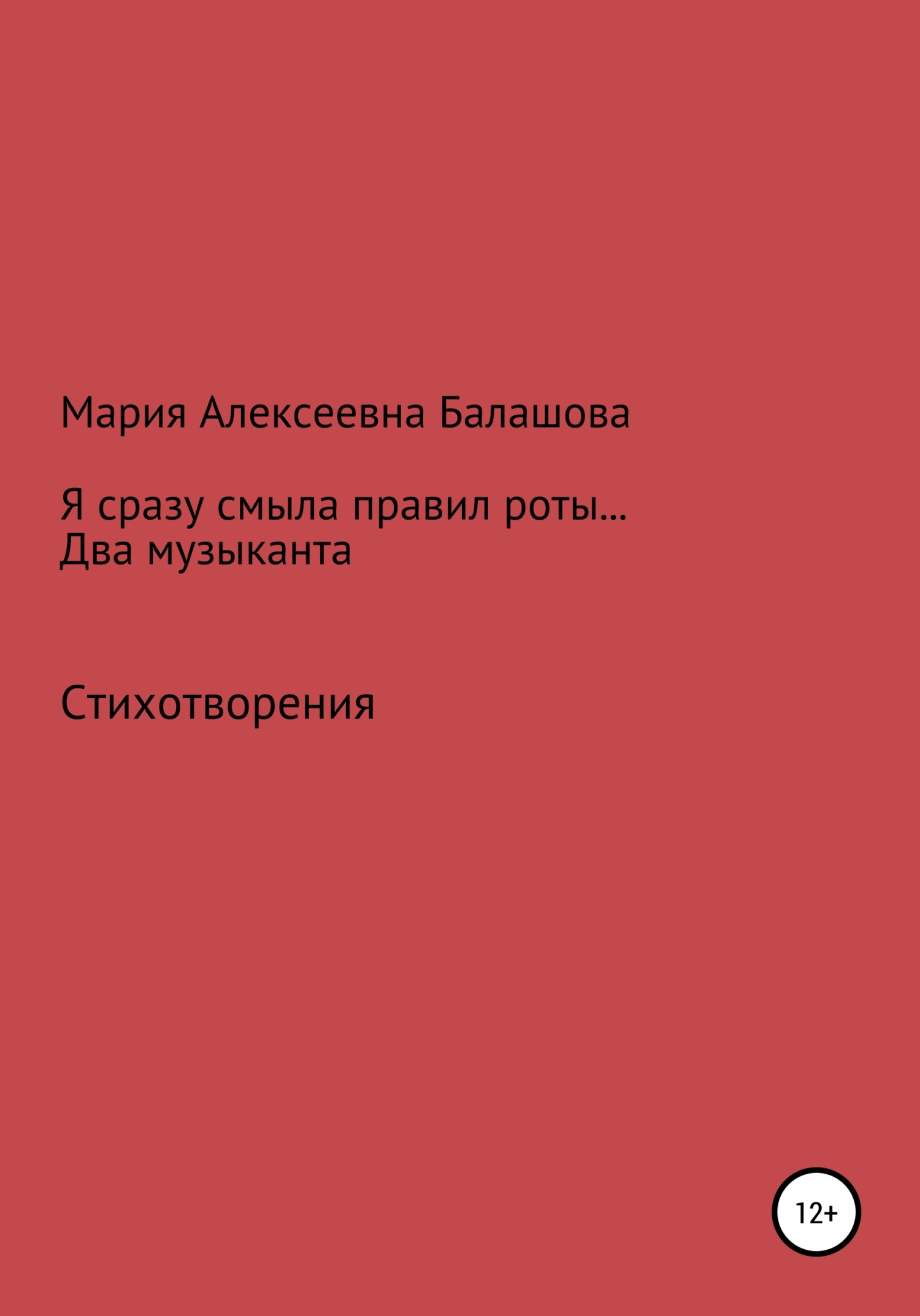Шрифт:
Закладка:
Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Всемирная известность пришла к нему после публикации художественной прозы, удивительных рассказов, стирающих грань между вымыслом и правдой, историей и воображением, литературным текстом и окружающей нас вселенной. Однако язык для Борхеса был «способом упорядочивать загадочное изобилие мира», и неудивительно, что именно поэзия, по его мнению, должна была справляться с этой задачей лучше всего. Как писал автор, «всякая поэзия – загадка; и никто не знает наверняка, что ему уготовано написать». Хотя что он называл поэзией, а что – прозой? В случае великого Борхеса эта грань очень размыта.Настоящее уникальное издание – первое в России полное собрание «поэтических» произведений Хорхе Луиса Борхеса, составленное автором на склоне лет. В него вошли тринадцать сборников, первый из которых был опубликован Борхесом в двадцать четыре года за свой счет тиражом 300 экземпляров («Жар Буэнос-Айреса»), а последний – за год до смерти («Порука»).Многие тексты публикуются на русском языке впервые.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.