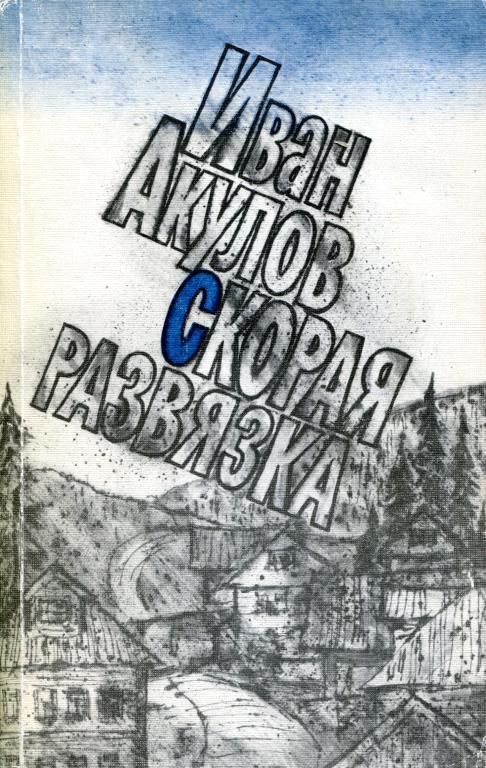Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Касьян Остудный» вывел Ивана Акулова в первый ряд нашей литературы. Настоящий сборник составили повести и рассказы, а также пьеса «Медвежий угол», интересные прежде всего тем, что их многосторонние проблемы обращены к личности человека, его добродетелям и порокам.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Иванович Акулов»: