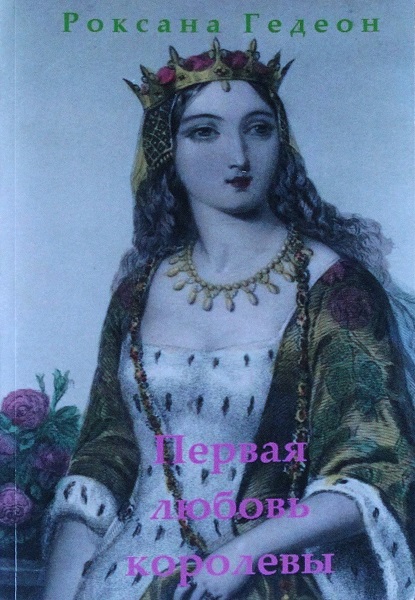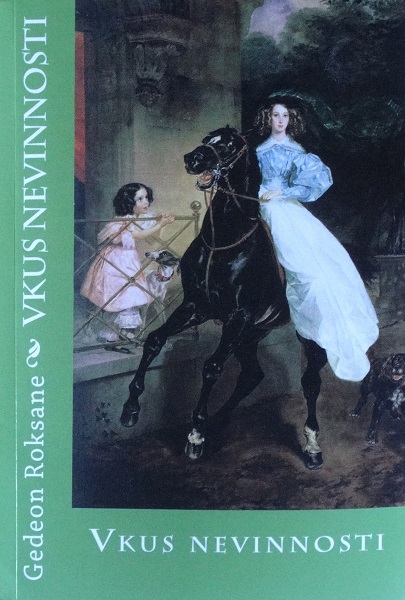Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Франция, 1833 год. Стучат колеса первых паровозов, бурно развивается капитализм, гибнет старый аристократический уклад жизни. Шестнадцатилетняя Адель Эрио, дочь известной всему Парижу дамы полусвета, без памяти влюбляется в Эдуарда де Монтрея - потомка знатного графского рода, знаменитого светского льва. Против их любви не только имущественные различия, но и сословные предрассудки, и прошлое матери Адель... Пламенное чувство разбивается о препятствия, оставляя в душе Адель шрамы обиды и унижения. Какой путь она для себя изберет? Для красивой девушки в Париже, как известно, открыты все дороги. Даже та, которая ведет в мир высокопоставленных куртизанок.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Роксана Михайловна Гедеон»: