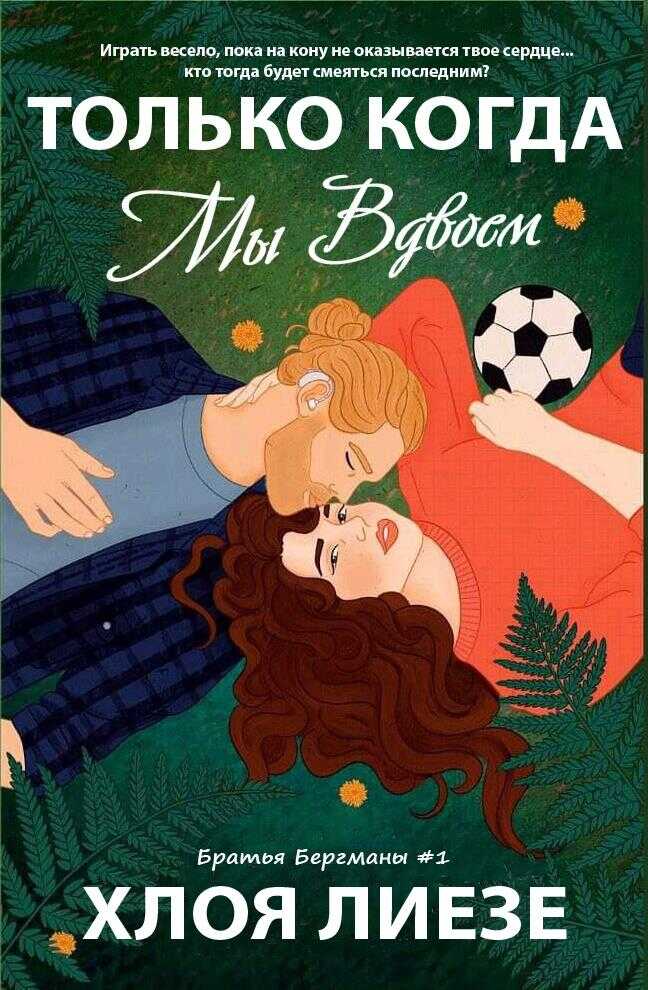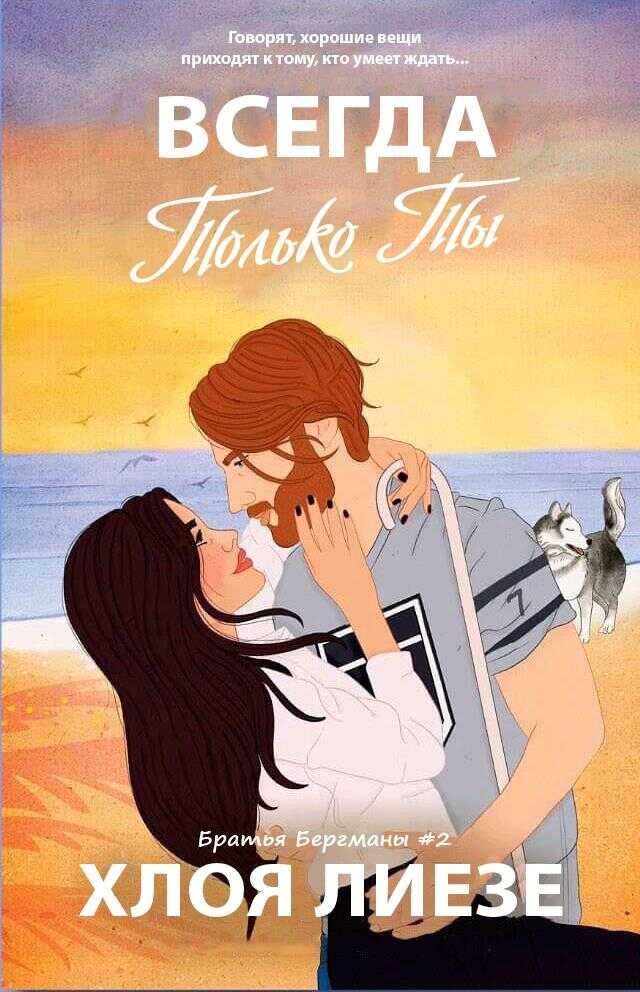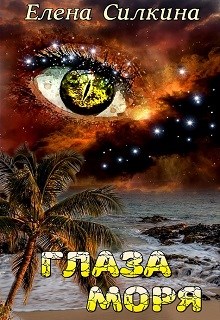Шрифт:
Закладка:
Приготовьтесь к томлению, смеху и головокружительному слоубёрну в этом спортивном романе про лучшего друга брата и нахождение любви всей своей жизни в самый неожиданный момент.ЗиггиЯ самый молодой игрок национальной футбольной сборной, младшая дочка в семье, и мне совсем надоело, что меня недооценивают, поэтому я решила взять дело в свои руки. И тут в игру вступает лучший друг моего брата и его товарищ по команде, скандально известный Себастьян Готье.Себу нужно восстановить репутацию. А я хочу слегка запятнать свою. Так что я предлагаю фальшивую дружбу с реальными преимуществами: проводить время вместе на людях, чтобы мой образ хорошей девочки и его скандальная известность плохого мальчика повлияли друг на друга. Он — моя плутовская темноволосая фантазия, воплотившаяся в жизнь, но его деструктивное поведение упрощает задачу держать его в фальшивой френдзоне. Ну, или так я думала, пока не начала видеть золотое сердце, которое он прячет под злобным фасадом…СебастьянКак любой уважающий себя негодяй, я катился под откос и наконец-то достиг дна. Моя хоккейная карьера и контракты со спонсорами под угрозой, и пусть я не готов на самом деле исправиться, я с радостью притворюсь, будто сделал это, чтобы сохранить образ жизни, который вот-вот потеряю.Так что когда сестра моего лучшего друга, Зигги Бергман, предлагает публичную «дружбу», чтобы скорректировать наши репутации, я не могу отказаться от этого предложения. Раньше я держался подальше от милой и стеснительной сестрёнки Рена, чтобы не рисковать испортить единственную хорошую дружбу в моей жизни. Но я убеждаю себя, что в этом замысле нет никакого риска. Я буду изображать дружбу с Зигги, улучшу свою репутацию и вернусь к хоккею — единственной вещи, которую я люблю. По крайней мере, таков был план, пока взаимовыгодное соглашение не превратилось в самые любящие отношения, что у меня были.