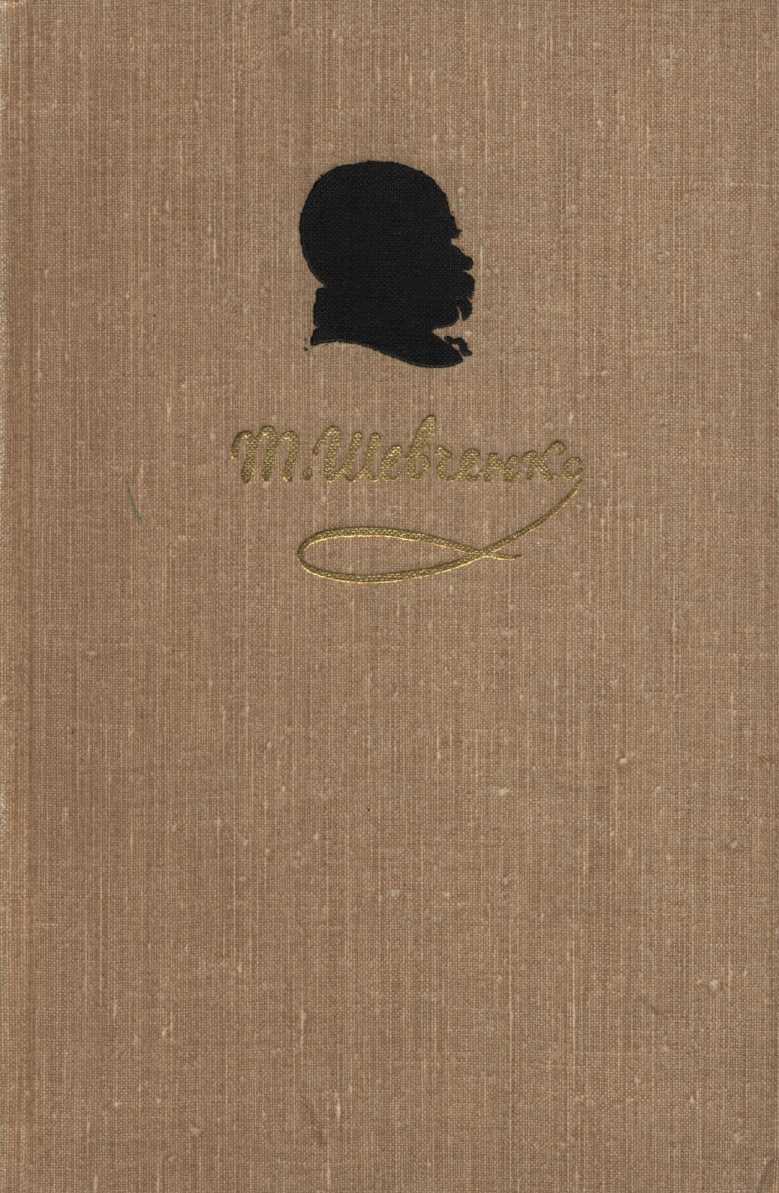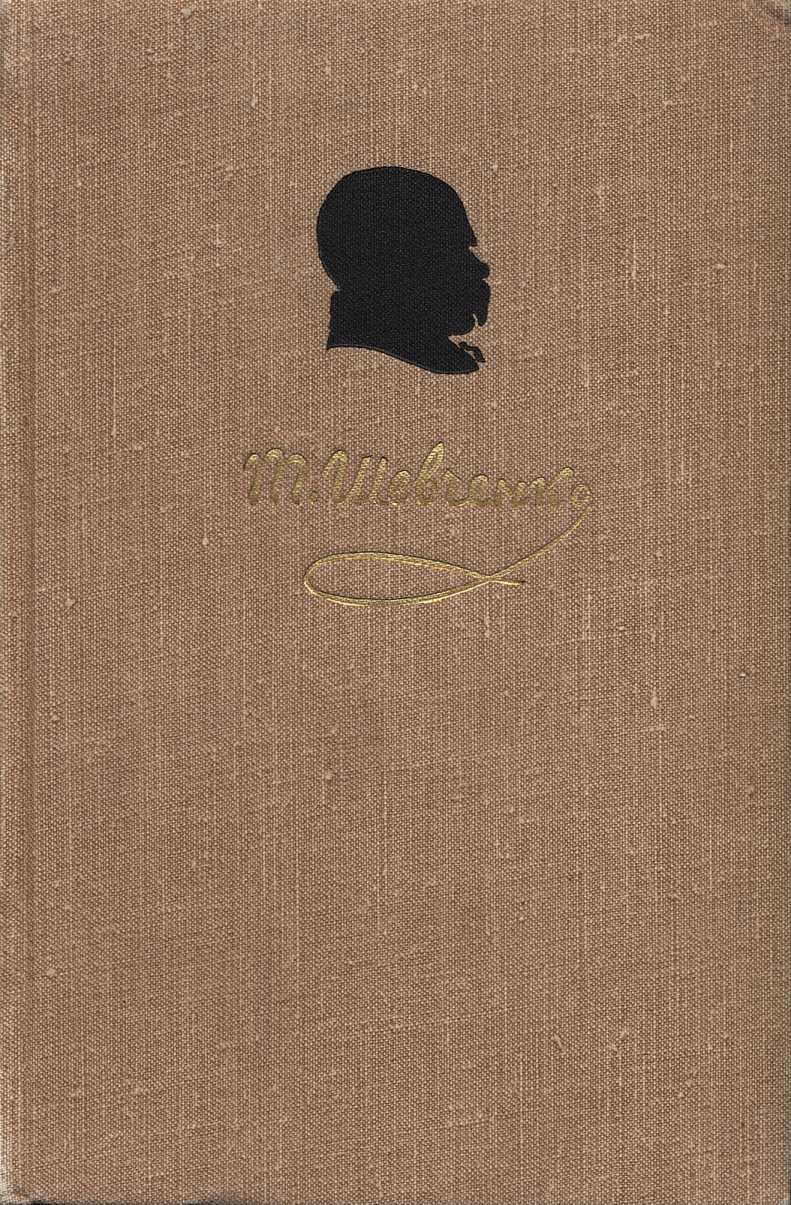Шрифт:
Закладка:
Черное было время, сплошняком темное, без просветов. Летом, сразу после избиения, они все-таки уехали. Думали с мамой податься в Москву или Питер, но денег наскребли только на небольшой соседний городок. Хорошо хоть туда, а не в какое-нибудь село. А вот Ленка с Лешей – Егор в эти моменты их просто ненавидел – на всех плюнули и добрались-таки до столицы. Ленка устроилась ветеринаром, потратила Лешкины накопления на съемную квартиру, и дела у нее резко пошли в гору. Странно, что от этого Егору стало только хуже. Он просыпался каждое утро, разглядывал пыльный ковер на стене и готов был умереть тогда же, в любую секунду, потому что вставать и проживать еще один день было невыносимо.
Несколько лет назад он решился поговорить об этом с психотерапевтом и впервые разрыдался на сессии. То есть как разрыдался – ему-то казалось, что он просто рассказывает, но потом щека зачесалась, и он обнаружил, что все лицо мокрое. Слезы текли и текли, не подчиняясь его воле, как будто кто-то открыл кран. Психотерапевт обещал, что теперь должно стать легче. Он так гордился случившимся, словно они совершили прорыв и слезы были его личной победой.
Егору же казалось, что старательно возведенные стены между нынешней и прошлой жизнью рухнули, рамки размылись, и он снова нырнул туда: в тупой колледж с программой как для учеников коррекционной школы, в душную квартиру двоюродной тетки, которой они должны были быть «благодарны по гроб жизни», в ужин из трех морковок, двух картошек и луковицы, в запах сигарет на кухне. Он никогда не был настолько одинок и ни разу еще так близко не подходил к самоубийству.
Уже потом другая психотерапевтка объяснила ему, что это называется «ретравматизация» и что прошлый специалист не должен был оставлять его в таком состоянии. Но урон был уже нанесен. Сколько бы Егор ни напоминал себе, что он давно живет в Москве, что у него нормальная работа, новая фамилия и ничто не связывает его с «сибирским Гейси», все равно каждое утро после того приема у психотерапевта он начинал с фантомного ковра из прошлого, который медленно опускался на него. Этим ковром, думал Егор, смаргивая узор, меня однажды и накроют.
Маясь между химерой теткиной квартиры и реальной жизнью, больше всего он боялся, что кто-нибудь узнает правду. Если прошлое просочится в настоящее, ему конец. Он сделал все, чтобы уничтожить старого Егора: стер его фамилию из документов, придумал ему новую школу и новые увлечения, даже занялся спортом, чтобы изменить свое тело. Нарастил мышцы, окунул руки по плечи в татуировки, выбрил полголовы. Но сколько бы Егор ни старался увидеть себя нового в зеркале, на него все равно смотрел тот шестнадцатилетний окурок, который каждый день хотел умереть.
В том же году он разбежался с девушкой – насовсем, уродливо, с истериками. Та все пыталась выпытать, почему Егор «поплыл», и затащить его к психиатру, чтобы получить рецепт на нормальную фарму. Но Егор ничего объяснять не хотел и к врачу идти отказывался.
После расставания голова была совсем не на месте, и он сделал самую тупую штуку на свете.
Он все разболтал.
2
На работе Егор старался с коллегами не пить, самое большее мог открыть бутылку пива. Но тот сезон выдался лютейший: у клиентов одного за другим срывало крышу, менеджеры факапили, а дизам иной раз приходилось ночевать прямо в офисе. Егор не возражал, даже радовался. Если что и может вытащить тебя из депрессии, считал он, так это дедлайн, который кусает за жопу. Когда он притащил в офис плед, зубную щетку и ортопедическую подушку, это никого не удивило.
Ему нравился новый ритм: садиться за работу в восемь утра, уходить на длинный обеденный перерыв в районе двух, а потом – марш-бросок до часу ночи. Где-то после десяти вечера мозг – та его часть, которая отвечает за логику, – уставал настолько, что начинал выдавать нечто по-настоящему крутое и креативное. В этом состоянии Егор находил самые мощные и нестандартные решения. Жаль, что клиенты не оценят, но собой как дизайнером он гордился.
Потом он засыпал на диване, любуясь темными прямоугольниками дремлющих экранов, и этот вид успокаивал его и одновременно пугал до жути. Пару раз он врубал свет (хотя охранник просил так не делать) и обходил дозором рабочие места своих коллег, рассматривал фотографии и магниты из других стран, ухмылялся надписям на кружках. Если бы он был уверен, что в офисе нет камер, то залезал бы в тумбочки, а так побаивался. Как-то наткнулся на фото ребенка, пришпиленное к пробковой доске. Девочка улыбалась, и над клыком у нее торчал еще один маленький клык. Как у Тани Галушкиной, подумал Егор и немедленно отошел от стола, лег на диван и укрылся пледом. А если тут камеры, может ли кто-то увидеть, что он задержался перед детской фотографией? Что они тогда подумают? А вдруг решат, что он извращенец? Откопают каким-то образом историю отца?
Но наутро никто ничего не откапывал – не до того было. Все носились взмыленные, истощенные, на последнем издыхании. У девочки-менеджера, для которой это был первый сезон, случился нервный срыв, и ее всем отделом отпаивали валерьянкой. Никто не удивился, потому что каждый год повторялось одно и то же. По окончании сезона все твердят, что надо нанять больше людей, что нельзя работу для сотни делать руками тридцати, но на следующий год все повторится точно, как по нотам. Только, может, срыв будет не у менеджера, а у верстальщика, например.
У Егора не бывало срывов. Он работал как машина и гордился тем, что уже пару лет как справлялся без стимуляторов. Молодец, жил чисто. Но день накануне Восьмого марта оказался тяжелее других. Егор ничего не успевал, косячил, переделывал, на него орали, он орал, зато к шести вечера все сдал – можно выдыхать. В честь праздника гендир собрал команду на кухне и принудительно налил вискаря всем парням, кроме Марка, который был алкоголиком и пил только лимонад. Девушки цедили вино, но как-то безрадостно. Всем хотелось домой, так что пьянка не задалась, расползлись к девяти. А Егору не хотелось уходить. Завтра выходной, и это означало, что нельзя будет дремать на диване, придется возвращаться домой. Казалось бы, какая разница, где спать? Но когда ты ночуешь в офисе, то чувствуешь, что незаменим, что твоя работа нужна прямо здесь и сейчас, иначе все рухнет. А если можешь прийти к десяти, неспешно выпить кофе и потом еще потупить перед компом, то никому ты на фиг не сдался.
Кроме Егора, в офисе оставался Шамиль. Он тоже не хотел возвращаться домой, а хотел продолжать пить. Поэтому они напились, потом вышли на улицу и потанцевали с кришнаитами, которые вечно тусовались у метро. Затем Егору стало стыдно, хотя кришнаиты их не прогоняли, и он уговорил Шамиля прогуляться вокруг озера у Девичьего монастыря. Озеро и сам монастырь выглядели так, будто их нарисовали акварелью. А я раньше рисовал, сказал Шамиль, протрезвев. Неплохо так рисовал, кстати, графику, в основном, но и маслом мог.
А чего бросил?
Да подростковые загоны: ты либо мегакрутой художник, либо говно на палке, никаких полутонов.
Егора удивило и немного восхитило, что и у других бывают сомнения в себе. Он ответил, что хорошо понимает про полутона, хотя для него дизайн – про ремесло, а не про искусство, но иногда такое выдашь, что самому за себя не стыдно. Вот только жизнь устроена иначе: она либо совсем дерьмище, без полутонов, либо среднее дерьмище, а тут уже серая зона. Может, у тебя депрессия, предположил Шамиль. У меня была когда-то в детстве, хотя никто не верит, что у ребенка может быть депрессия, но мне было лет пять, и я страшно боялся смерти. Вот прям лежал в кровати и думал, что сейчас умру, и мне было так страшно, что я писался.
У меня тоже была депрессия однажды, сказал Егор,