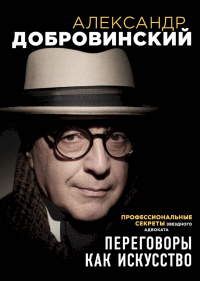Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Александр Андреевич Добровинский, известный писатель, коллекционер, гольфист, радиоведущий, лектор, публицист, актер кино, муж, отец, путешественник, гурман и модник, точно не заставит вас скучать!В сборнике рассказов Добровинский с присущим ему беспощадным чувством юмора рассказывает о своих юношеских годах и взрослении, о профессии адвоката и выборе дела, о богатстве и деньгах, о путешествиях и жизни за границей, о семье и друзьях.Содержит нецензурную брань!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Добровинский»: